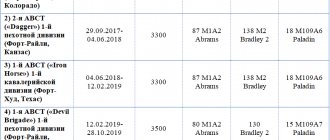«Великая Германия» готовится спасти рейх
Одной из «пожарных команд», спешно переброшенных для восстановления коммуникаций с группой армий «Север», стала дивизия «Великая Германия», которой командовал генерал-лейтенант Хассо фон Мантойфель. По меркам августа 1944 года дивизия представляла собой внушительную силу: к началу наступления в ней числились боеготовыми 10 Pz. Kpfw. IV, 70 «Пантер», 27 «Тигров» и 19 самоходных орудий. Ещё семь «Пантер» и шесть «Тигров» числились в краткосрочном ремонте и могли усилить «Великую Германию» в ближайшие дни.
Интересно, что захваченный 9 августа пленный из 11-й роты гренадёрского полка дивизии сообщил схожие цифры, но, как принято говорить, иначе расставил акценты. По его показаниям, танковый полк «Великой Германии» имел 70 «Тигров», 50 «Пантер», 30 Pz. Kpfw. IV, а также 30 самоходных орудий с пушками калибра 88 мм.
«Тигры» дивизии «Великая Германия» в ходе переброски по железной дороге
© warspot.ru
Ближайшей задачей для дивизии стал литовский городок Вилкавишкис. Как видно, даже литовское название созвучно слову «волк», а до 1917 года этот город на картах Российской империи, а затем и на советских вполне официально именовался Волковышки. Город был только недавно взят советскими частями 33-й армии, действовавшими совместно с 2-м гвардейским танковым корпусом (гв.тк). Немцы могли не без оснований рассчитывать, что прочной обороны на этом участке русские создать не успели, а наспех окопавшиеся стрелковые части, даже поддержанные некоторым количеством «тридцатьчетвёрок», для «Тигров» и «Пантер» дивизии серьёзной проблемы не составят.
Нарукавные ленты
Наиболее заметным знаком отличия большинства элитных частей были нарукавные ленты. Впервые они появились в июне 1939 г.: по темно-зеленой полосе из искусственного шелка шла вышитая машинным способом алюминиевой нитью надпись «Großdeutschland». Шрифт надписи был готическим; по краям ленты проходили вышитые такой же алюминиевой нитью каемки. Ленту полагалось носить на правом рукаве, в 15 см от нижнего края. Летом 1940 г. появилась лента второго образца, со сложной для чтения надписью «Inf. Regt. Großdeutschland». Фотографий, подтверждающих ношение такой ленты, не известно, но несколько экземпляров лент сохранилось до наших дней. Конструктивно эти ленты были такими же, как первый вариант: зелеными, из искусственного шелка (вискозы), с вышитым алюминиевой нитью текстом и каймами.
Третий, наиболее распространенный вариант, появился также в 1939 г. В нем вновь вернулись к одному только слову «Großdeutschland», но стали вышивать его алюминиевой нитью вручную, используя старый германский «рукописный готический» шрифт; цвет ленты с зеленого сменился на черный. Ткань вместо искусственного шелка заменили на шерстяную тонкой выделки, «под замшу». Каемки стали двойными, с узким черным просветом. Часто ленты такого образца считают «офицерскими», но на самом деле их носили военнослужащие всех званий. Хотя ленты первого типа к концу 1940 г. уже почти полностью оказались вытесненными новыми, «рукописными», фотографические источники показывают, что ветераны первого полка «Великая Германия» продолжали носить их до конца войны.
Примерно в середине 1944 г. в целях экономии было приказано стандартизировать выпуск нарукавных лент. Ленты «Großdeutschland», выпущенные после этого, имели тканую серебристо-серую надпись на черном шерстяном основании с прямыми одинарными каймами. Наконец, в ноябре 1944 г. последовал приказ, ограничивший длину ленты 25 см — теперь ее нельзя было нашить вокруг всего рукава, но зато достигалась заметная экономия материала: на внутренней стороне рукава ленту все равно не было видно. Фотографические источники подтверждают ношение подобных лент, но их редкость свидетельствует, что до конца войны накопились достаточные запасы нарукавных лент «нормальной» длины, которые в большинстве случаев и носили.
Последний вариант нарукавной ленты «Großdeutschland» появился в 1944 г. Эти ленты имели вышитую машинным способом надпись, имитировавшую каллиграфический рукописный шрифт. Поскольку этот образец ввели уже после распоряжений о стандартизации лент, он ткался на черной шерстяной ткани серебристо-серой нитью. Правда, известно несколько лент с «каллиграфическим» шрифтом, вышитых вручную — вероятно, они изготавливались по заказу.
Ты знаешь, что я знаю…
Сосредоточение немецкой группировки не осталось незамеченным в штабе 3-го Белорусского фронта. Более того, командующий фронтом генерал армии И. Д. Черняховский сумел определить и наиболее вероятное направление немецкого контрудара. Полученный в 33-й армии приказ командующего фронтом выглядел так:
«1. Войска держать в полной боевой готовности, проверить безотказность работы средств связи и организацию противотанковой обороны.
2. К утру 09.08.44 заминировать подступы к г. Волковышки и на танкоопасных направлениях.
3. Присоединить к 222-й сд стрелковый полк этой дивизии, находящийся в обороне на стыке 70-й и 49-й сд и расположить полк в районе Руда, Гиже.
4. Вывести к утру 09.08.44 две тбр 2-го гв. тк в район Сувалки (4 км восточнее Волковышки) и подготовить их к отражению атак танков и к контратакам на Волковышки, Лукшишки, Антупе. Подготовить к действиям весь 2-й гв. тк.
5. Проверить готовность к действиям сап и иптап 47-й бригады, орудия зарыть в землю и тщательно замаскировать.
6. К утру 09.08.44 в лес 4 км западнее Мариамполь прибывает 153-я тбр и 343-й сап (из фронтового резерва) с задачей не допустить атак противника в направлении Мариамполь.
7. Организовать непрерывную разведку и наблюдение.
8. Пехоту и артиллерию закопать в землю.
9. При первом признаке подготовки противника к переходу в наступление провести контрподготовку с вызовом авиации».
Немцы, в свою очередь, также с неудовольствием констатировали: «По агентурным данным, противник знал о подготовке наступления от своих агентов в нашем тылу». В данном случае, советская разведка полностью выполнила свои задачи и «чётко доложила» о предполагаемом немецком наступлении. Теперь другим предстояло сломать немецкие планы.
Противотанкисты
Как видно из текста приведённого выше приказа, генерал Черняховский вполне объективно оценивал «противотанковые» возможности как находящихся на предполагаемом направлении вражеского наступления частей 19-го стрелкового корпуса (ск), — 222-й стрелковой дивизии (сд) полковника Г. П. Савчука (на 4 августа 4728 человек и ещё 200 человек нераспределённого пополнения) и 157-й сд полковника В. А. Катюшина (на 4 августа 5006 человек и ещё 100 человек нераспределённого пополнения), — так и бригад 2-го гв. тк, в котором на вечер 8 августа числилось 57 «тридцатьчетвёрок», 10 СУ-85 и три СУ-76. Кроме этого, в приданном 401-м гвардейском самоходном артиллерийском полку (гв.сап) имелось 10 СУ-85, а вот 1500-й сап штатной матчасти в виде СУ-76 не имел вообще.
Челюстями «волчьего капкана» для немецких бронированных кошек должны были стать истребительно-противотанковые артиллерийские полки (иптап) двух истребительно-противотанковых артиллерийских бригад (иптабр) РГК: 43-я иптабр полковника И. И. Кия и 47-я иптабр полковника Д. Л. Маргулиса, имевшие на вооружение как 76-мм ЗиС-3, так и 57-мм ЗиС-2. С боевым опытом у комбригов тоже всё было в порядке — так, Давид Маргулис получил звание Героя Советского Союза ещё в январе 1940 года за отличия в ходе советско-финской войны.
Хассо фон Мантойфель с офицерами «Великой Германии»
© warspot.ru
В район Вилкавишкиса части 43-й иптабр начали перебрасываться ещё в начале августа. Так, 6 августа 1964-й иптап занял открытые огневые позиции на южной окраине города, а 1965-й и 1966-й иптап, выдвинутые в район Вилкавишкиса ранее, продолжили закапываться в землю. Точное число орудий в 43-й иптабр к началу немецкого наступления установить сложно — бригада уже некоторое время была в боях и несла потери. В частности, в этот день артиллерийским огнём противника была уничтожена одна пушка ЗиС-3 и ленд-лизовский «Студебекер» с запасом снарядов — судя по перечню, немцам удалось накрыть пушку с боекомплектом в момент перевозки.
На следующий день немцы провели контратаку, очевидно, пытаясь оценить силу обороняющихся перед наступлением «Великой Германии». К середине дня 1-я и 5-я батарея 1966-го иптап остались без пехотного прикрытия, окружённые с трёх сторон. К вечеру немцы всё же отошли на исходные позиции. Впрочем, от дравшихся с танками батарей к этому моменту осталось не много — одно 76-мм и одно 57-мм орудия были уничтожены полностью, ещё четыре 57-мм и одно 76-мм записаны как «разбиты и вышли из строя». Только 57-мм снарядов за день было расстреляно больше 400.
«Тигр» и панцергренадёры «Великой Германии» рядом с трофейными советскими орудиями ЗиС-3
© warspot.ru
Ночью взамен разбитых батарей 1966-го полка на его участок обороны были переброшены три батареи 1965-го иптап. Однако этот жаркий бой был, по сути, силовой разведкой перед основным ударом противника.
Горячий август 44-го
8 августа серьёзных боев в полосе 33-й армии не было. Советские части закапывались в землю, готовили противотанковые узлы обороны, расставляли мины. В дополнительных приказах и окриках командиров нужды не было — гул моторов с другой стороны фронта служил куда лучшим стимулом. Разведчики доложили о подходе к передовой более 200 танков и САУ, а также автомашин с пехотой.
Немецкое наступление началось в 05:30 (по другим данным, в 06:00) с мощной артподготовки. Отдельно в документах попавших под немецкий удар советских частей отмечено массированное применение «небельверферов». Интересно, что при этом в отчёте штаба артиллерии 33-й армии о, а далее, что «артогня, за исключением выстрелов из танков и самоходных орудий, противник не вёл». Возможно, что немцы использовали артобстрел на некоторых участках как часть отвлекающего манёвра, уводя внимание от направления главного удара. По крайней мере, их мемуары указывают на то, что фон Мантойфель повёл свою дивизию в наступление без единого артиллерийского выстрела.
Панцергренадёры «Великой Германии», вооружённые фаустпатронами
© warspot.ru
Рассветный туман закрывал будущее поле боя — немецкие танки удавалось различить не дальше 500−600 метров. Подразделения «Великой Германии» действовали двумя боевыми группами — панцергренадёры при поддержке самоходок атаковали город с юга, танковый полк и фузилёры первоначально двигались юго-восточнее.
Первыми в бой вступили батареи 873-го и 578-го иптап. Четвертая батарея 873-го полка открыла огонь с 500 метров. Короткий встречный бой стоил противотанкистам трёх разбитых снарядами орудий, двух тягачей и 10 человек убитыми и ранеными. При этом батарея сообщила о трёх подбитых и трёх уничтоженных танках. Пытаясь обойти позиции 4-й батареи, немцы вышли на 3-ю батарею. На этот раз дистанция была ещё меньше, и немецкие танки на большой скорости пошли прямо на пушки. Два орудия были разбиты снарядами, одно — раздавлено гусеницами, но и артиллеристы отчитались о пяти подбитых танках.
Согласно донесению штабов 19-го ск и 578-го иптап, первая атака немцев была отбита. Смять позиции 222-й сд «Великой Германии» удалось лишь повторной атакой в 07:20. Донесения других частей об этом не упоминают. Возможно, уже первую немецкую атаку сумели отбить не все, или для сражавшихся бойцов день слился в один тяжёлый кровавый бой.
© warspot.ru
Для батарей 578-го иптап, занимавших позиции к юго-востоку от городка, в районе хуторов Краужморги и Значки, решающей стала именно повторная атака. Согласно донесению, в этой атаке на позиции полка с двух сторон вышли до 80 танков и самоходок. Выдержать такую атаку полк уже не мог. Итоговый счёт 578-го иптап составил 28 танков и пять самоходок (по другим данным, 20 танков, пять САУ, три бронемашины, одно противотанковое орудие, один миномёт, один пулемёт и около 400 солдат и офицеров). При этом были потеряны 22 57-мм орудия и 20 автомашин.
Прорвав оборону 222-й сд, немцы вышли на шоссе Вилкавишкис — Мариамполь. После попытки преодолеть заслон противотанкистов, поддержанных спешно переброшенными на этот участок бригадами 2-го гв. тк, большая часть немецких танков повернула на запад, к окраине Вилкавишкиса, пытаясь помочь гренадёрами и самоходкам «свернуть» оборону 157-й сд.
Специальная форма
Военнослужащим «Великой Германии», единственным из всех элитных частей, полагалась униформа специфического покроя. Она была разработана и официально принята в 1939 г., но так и не получила широкого распространения. Предполагалось, что эта форменная одежда должна стать стандартной формой части после окончательной победы над противником. Специальная форменная одежда включала мундир (Wafferrock) и шинель; головной убор и брюки полагались стандартного образца.
Мундир шился из ткани тусклого зеленовато-серого цвета и имел темно-зеленый воротник и отделку обшлагов. Петлицы (Litzeri) полагались особого вида — значительно длиннее и шире обычных, без подложки прикладного цвета. Унтер-офицерам с каждой стороны воротника полагалась всего одна «катушка» петлицы, рядовым — по две, расположенных одна над другой. Необходимость сделать унтер-офицерские петлицы более узкими объяснялась просто: из-за обшивки воротника полосой галуна (Tresse) широкую петлицу негде было разместить. По наружному краю стояче-отложного воротника шел белый «пехотный» кант. «Французские» обшлага заметно отличались от общеармейских. Помимо обычного темно-зеленого обшлага, они имели трехмысковые обшлажные клапаны; и обшлага, и клапаны также имели белые канты. На обшлажном клапане нашивалось три петличных «катушки» с алюминиевой пуговицей на каждой. Такой мундир полагалось носить с нарукавной лентой первого образца (зеленой, с вышитым алюминиевой нитью названием полка — шрифт готический). Погоны — с шифровкой «GD». Карманов на мундире не полагалось. Мундир был однобортным, застегивался на восемь посеребренных алюминиевых пуговиц. Спереди по борту мундира шла белая выпушка.
В комплект этой униформы входила шинель, отличавшаяся от стандартного образца белыми кантами по краю темно-зеленого воротника и отворотам обшлагов.
В небе штурмовики
Уже после первых сообщений, когда в штабе фронта стало ясно, что «немцы пошли», в район Вилкавишкиса нацелили части 1-й воздушной армии. Основная роль отводилась штурмовым частям 3-го штурмового авиационного корпуса (шак) и 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии (гв.шад) — от них требовалось максимально затруднить действия немцев и помочь наземным частям выдержать удар. При этом 70% бомбовой загрузки должны были составить ПТАБы. В 09:20 штурмовики Ил-2 под прикрытием истребителей 2-го истребительного авиационного корпуса (иак) «начали работу» по наводке с радиостанций выехавших на передний край офицеров штаба воздушной армии.
Уже к 12:00 части 1-й воздушной армии совершили 234 боевых вылета, из них 127 — на штурмовые действия. К 19:00 штаб армии отчитался о 696 вылетах, из которых 461 пришёлся на штурмовые действия. По докладам экипажей, на земле было уничтожено и повреждено до 70 танков, два самоходных орудия, до 200 автомашин, шесть бронетранспортёров. Об интенсивности ударов говорит хотя бы тот факт, что за 9 августа штурмовики вывалили на наступавших немцев 16 480 ПТАБ.
Брошенный под Вилкавишкисом подбитый «Тигр»
© warspot.ru
Также по итогам 41 проведённого воздушного боя лётчики 1-й воздушной армии заявили о 42 сбитых немецких самолётах, причём на самолёты противника наводили не только истребителей, но и «Илы», представлявшие серьёзную угрозу для «Юнкерсов» Ju 87 — на счету штурмовиков было 14 вражеских самолётов. Советские потери составили 21 машину, из них девять истребителей Як-9 и 12 штурмовиков Ил-2.
К сожалению, не обошлось и без огня по своим. Так, из 26-й гвардейской танковой бригады (гв.тбр) сообщали: на «дружественный огонь» пришлись двое убитых и семеро раненых, а также разбитое 76-мм противотанковое орудие. Соседняя 4-я гвардейская мотострелковая бригада (гв.мсбр) сообщала, что «наша штурмовая и истребительная авиация беспрерывно бомбит и обстреливает из пулемётов танки и пехоту противника», но и самой бригаде тоже досталось: под «дружественный огонь» попал её миномётный дивизион, в котором погиб начштаба, а командир был тяжело ранен.
Советский артиллерист осматривает уничтоженное немецкое 88-мм противотанковое орудие
© warspot.ru
Активность советской авиации сложно было не заметить и немцам. В оперативном донесении штаба 3-й танковой армии указано: «Все действия дивизии [Великая Германия] значительно затруднялись массированными атаками штурмовой авиации противника, в результате которой наши войска несли большие потери».
Но всё же судьба сражения решалась не в воздухе, а на земле. Штаб фронта уже начал стягивать подкрепления к месту удара — для содействия частям 19-го ск выдвигались 277-я сд 5-й армии, а также 31-я и 83-я гв. сд 11-й гвардейской армии. Если бы немцы прорвались дальше, их было кому встретить.
Рудольф Зальвермозер — Воспоминания ветерана дивизии Grossdeutschland
1
Зальвермозер Рудольф
Воспоминания ветерана дивизии ‘Grossdeutschland’
Зальвермозер Рудольф
Воспоминания ветерана дивизии «Grossdeutschland»
Рудольф Зальвермозер в 1942 г. После окончания школы, я, член «Гитлерюгенд», пошел добровольцем в Вермахт, потому что хотел сражаться за родину на великой войне. Я решил стать танкистом и был зачислен в танковое училище в Бамберге, моя военная подготовка продолжалась там почти шесть месяцев с апреля до октября 1942 г. Подготовка была разделена на два отдельных семестра, каждый из которых продолжался примерно три месяца. Первый семестр можно считать вариантом американского лагеря для новобранцев или же основного курса подготовки солдат, с в основном пехотинцев. Второй семестр был посвящен специальной танковой подготовке. Несмотря на тот факт, что мы выполнили «трудовую повинность» во время нашего пребывания в Бамберге, нас отправили в деревеньку на севере, где должны были помогать при уборке урожая. Это задание продолжалось одну-две недели, а затем мы вернулись в свой полк для продолжения обучения.
Обучение в Вермахте было очень трудное, жестко организованное и подчиненное дисциплине, оно продолжалось долгие часы, а время отдыха было очень коротким, если оно вообще было. Нам не давали отпуска в первые шесть месяцев, а затем отпуск давался только в том случае, если мы успешно проходили свое первое испытание на отдание чести. Естественно, они не хотели, чтобы мы ходили в город и представляли армию, если мы не могли должным образом приветствовать старших по званию. Другая причина, а возможно и главная, заключалась в том, чтобы ограничить число людей, выходящих в город, но, конечно, в то время мы об этом не думали.
Я очень хотел пойти в увольнение, но, когда настала моя очередь отдавать честь, угол, под которым моя вытянутая рука находилась по отношению к макушке, был на несколько градусов меньше, чем требовалось. Поэтому выходные дни я провел неподалеку от казарм.
Иногда нам выдавали сигареты, алкоголь и тому подобное, но только в очень ограниченном количестве. Если это был алкоголь, то нам разрешалось выпить в своей казарме и (можно об этом было бы и не упоминать) никому не разрешалось идти в увольнение, когда нам выдавали спиртное. Мне повезло, у меня был очень хороший взводный сержант, оберфельдфебель (старший сержант), который оказал мне честь, выбрав меня в качестве слуги. Не примите мое заявление за шутку, в тот момент это действительно была честь, для меня также, как и для других, быть выбранным для выполнения именно этого задания. Несмотря на то, что я и без того был достаточно озабочен тем, чтобы моя форма была всегда выглажена и безукоризненно чиста, а ботинки блестели а я еще должен был делать все это и для него, это означало, что он был обо мне высокого мнения (как о хорошем солдате).
Дивизия «Grossdeutschland»
В декабре 1942 некий майор из элитной дивизии СС «Grossdeutschland» («Великая Германия») приехал в Бамберг. Нам не сказали, в чем заключалась его миссия, но все наши роты, одна за другой, должны были предстать перед ним на плацу. Майора сопровождали наши командиры рот, а затем наши фельдфебели говорили некоторым из нас, что мы должны явиться в определенную комнату этим же вечером, но позже. Когда мы явились по приказанию, нам велели заходить по одному.
Когда я вошел, то увидел сидящего здесь за столом майора. Он спросил, как меня зовут, из какой части Германии я родом, сколько я служу и что я думаю о войне и о фюрере. Мои ответы, очевидно вызвали его одобрение, потому что на следующий день мне сообщили, что я стал одним из счастливчиков, которых приняли в «Grossdeutschland».
Меня назначили руководителем группы в составе шестерых человек, которые были выбраны из бамбергского полка. Нам было приказано сначала явиться в Берлин, а затем в Коттбус, где располагалась основная часть «Grossdeutschland», а затем в Кенигсберг в Восточной Пруссии. Отсюда нас ночью на грузовиках привезли в какой-то городок в центральной части Восточной Пруссии. По прибытии нас разместили в пустых казармах. Никто из нас не знал, что происходит, и мы даже в тот момент не знали, где находимся. Обстановка таинственности усугублялась еще и тем, что никому не разрешалось покидать территорию, за исключением зала для совершения мессы, а затем мы должны были вернуться прямо в казармы. Это продолжалось несколько дней, и каждый день прибывали все новые солдаты. Естественно, что в такой обстановке возникло множество слухов и вопросов, но никто из нас не был способен пролить свет на ситуацию, в которой мы находились. Когда нас стало столько, что из нас можно было сформировать роту, нас построили, сказали, что теперь мы члены дивизии «Grossdeutschland», что это честь для нас быть принятыми, и что в короткий срок нас переведут в другое место. Как и обещали, однажды вечером нас посадили в закрытые грузовики и отправили в путь. Мы не знали, куда едем и что мы будем делать, когда туда попадем, грузовики затормозили и мы услышали как кто-то командным голосом крикнул «Хальт!» Очевидно, мы приехали к воротам КПП, потому что через несколько минут нас выгрузили перед какими-то примитивно выглядевшими деревянными казармами. Когда мы спросили старшего члена «Grossdeutschland» о том, где мы находимся, он повернулся и сказал: «Вы скоро об этом узнаете!»
И мы действительно узнали, потому что вскоре нам сказали, что теперь мы принадлежим Fuhrerbegleitbataillon (батальону сопровождения фюрера), который охраняет Гитлера и его ставку. Вместо того, чтобы чувствовать себя взволнованным и польщенным, я думал только: я здесь, все еще в Германии, и вместо того, чтобы воевать на фронте я буду всего только охранником. Я понимал, что кто-то должен это делать, но почему бы им не выбрать того, кто не может выполнять свой долг на фронте? Это было смешанное чувство, Потому что я понимал, что это честь быть выбранным для выполнения такого задания, но я в то же время был разочарован. Однако вскоре нас заверили, что мы будем служить и на фронте, что именно в этом батальоне мы будем какое-то время служить в штабе фюрера, а потом нас переведут в зону сражений. Как оказалось, в состав Fuhrerbegleitbataillon на самом деле входило два батальона один служил на фронте (обычно на Восточном фронте), а второй охранял Гитлера и его штаб. Тот батальон, который находился в бою, подчинялся непосредственно Гитлеру. Он определял, куда направить этот батальон, и сюда нас и послали. Если возникала критическая ситуация, он посылал нас туда для ее разрешения, потому что он знал, что куда бы нас не послали, нам все удавалось. Казалось, что неважно, к какому месту на Восточном фронте мы были приписаны, мы всегда сталкивались с элитной советской Красной Гвардией, а не с какими бы то ни было другими русскими подразделениями. Туда, куда Гитлер отправлял «свой» батальон, Сталин посылал «свой» как будто бы два лидера играли в солдатики!
PzKf-III дивизии СС «Grossdeutschland» возле Растенбурга.
Продвижение по службе в Fuhrerbegleitbataillon было редким из-за того, что потери среди солдат были меньше. Естественно, если кого-то отправляли в подразделение, которое оставалось на фронте, и ему удавалось выжить, то у него было гораздо больше шансов продвинуться по службе. В подразделении вроде нашего, постоянная ротация и, следовательно, меньшие потери мешали нашему продвижению. За время моей службы в Вермахте с апреля 1942 по май 1945 мне удалось достичь всего лишь чина унтер-офицера. Если бы мне удалось поступить в офицерскую школу, то я бы стал офицером. Тем не менее, мои друзья, у которых тоже были дипломы о высшем образовании, продвигались с той же скоростью, что и я.
Моей военной специальностью было обслуживание танковых орудий. Опять же во время обучения нас учили быть не только наводчиками, заряжающими, водителями, радистами или командирами танка. Каждого обучали одной и, в меньшей степени, четырем другим специальностям. Естественно, рекрут не мог надеяться сразу стать командиром танка, но его обучали командирским обязанностям, чтобы он мог с ними справиться в случае необходимости. Если солдат демонстрировал определенные способности, например: меткую стрельбу, хорошее восприятие азбуки Морзе, особые способности к вождению или наклонность к механике, то ему давали именно эту специальность.
Я продемонстрировал особые способности к артиллерийскому делу, но не просто к наведению на цель и стрельбе. Вы должны были определить тип снаряда, требуемого для того, чтобы поразить цель (фугасный, бронебойный и т.д.), оценить расстояние до цели, опередить цель, чтобы добиться соответствия по скорости и направлению, и для всего этого требовался своего рода аналитический ум. Большинство артиллеристов подбиралось с учетом их потенциальной возможности стать командирами. Я не хвастаюсь, но я был достаточно хорош для того, чтобы быть меня выбрали командиры танка, которые имели право выбирать наводчика. Конечно, если ты уже был приписан к командиру и его танку, ты обычно оставался с ним, за исключением тех случаев, когда он или ты был ранен или убит.
1
Лицом к лицу
384-й и 633-й стрелковые полки 157-й сд к утру 9 августа занимали оборону юго-западнее Вилкавишкиса. Ещё один полк дивизии — 716-й сп — в ночь на 9 августа сдал свой участок обороны частям 344-й сд и встал на восточной окраине города фронтом на восток. По донесениям пехотинцев, немецкие танки прорвались к городу в 11:00, и уже в 14:00 батальоны 716-го сп были оттеснены на север, а 384-й и 633-й сп вместе с противотанкистами оказались в окружении. Согласно отчётам иптаповцев, одной из причин стала переброска на другой участок батареи отдельного истребительно-противотанкового артдивизиона 157-й сд, прикрывавшей шоссе Вилкавишкис — Мариамполь со стороны города. О снятии этой батареи командир 1964-го иптап не знал.
Именно по этому шоссе на рассвете 9 августа 1944 года в город прорвались немецкие танки и мотопехота. К 12:00 город Вилкавишкис полностью окружён. То, что происходило на улицах города, можно попытаться представить смотревшим советский киносериал «Батальоны просят огня!»
Немецкий бронетранспортёр с зенитной установкой, ставший жертвой атак советских штурмовиков
© warspot.ru
Первая батарея 1966-го иптап получила приказ следовать в город, на помощь к 1964-му полку, командир которого подполковник П. Р. Саенко за этот бой стал Героем Советского Союза. При въезде в город артиллеристы столкнулись с немецкими танками, в самом прямом смысле наскочив на колонну вражеской бронетехники, и сходу вступили в бой. Первое орудие при этом почти сразу раздавила самоходка, в донесении названная «Фердинандом» — её тут же подбило успевшее развернуться второе орудие, но бой для противотанкистов только начинался. Батарея дралась более двух часов, уничтожив 13 вражеских машин и потеряв все орудия разбитыми или раздавленными танками. Оставшиеся в живых артиллеристы с боем прорвались к штабу того самого 1964-го иптап, которому шли на помощь.
Ещё одной батареей, пытавшейся прорваться в Вилкавишкис, стала 4-я батарея 1965-го иптап, но заехать в город удалось лишь машине командира батареи, да и то недалеко. Прямым попаданием снаряда грузовик был уничтожен, почти весь расчёт погиб вместе с орудием. Уйти удалось лишь одному рядовому и командиру батареи, которого ценой своей жизни вытащил шофёр.
1964-й иптап сражался с утра, причём с полудня — в полном окружении. Получив сообщение о подходе к городу танков, командир полка снял с занимаемых огневых позиций и направил на юго-восточную окраину 4-ю батарею и два орудия 3-й батареи с задачей не допустить танки противника в город. Но время было упущено, батареи с ходу вступили в бой с уже прорвавшимися танками. В бою погиб командир 3-й батареи лейтенант В. С. Васильев, командир 4-й батареи капитан Л. Г. Колосов был тяжело ранен. Расчёты успели подбить девять танков и четыре бронетранспортёра.
Батареи вели бой и с танками, и прорвавшейся к их позициям пехотой. Оставшийся без орудий личный состав занимал оборону на высоте около городского кладбища. Севернее, в районе церкви, также в полном окружении дрался штаб полка, причём в ходе боя охрана штаба отбила группу пленных, которых немцы вели по соседней улице.
Моторизованная дивизия «Гроссдойчланд»
Состав (конец 1944 года): танковый полк «Гроссдойчланд», моторизованный полк «Гроссдойчланд», фузилерный полк «Гроссдойчланд», артиллерийский полк «Гроссдойчланд», танковый разведывательный батальон «Гроссдойчланд», дивизион истребителей танков «Гроссдойчланд», танковый саперный батальон «Гроссдойчланд», танковый батальон связи «Гроссдойчланд», армейский зенитно-артиллерийский дивизион «Гроссдойчланд» и самоходно-артиллерийский дивизион «Гроссдойчланд».
Место постоянной дислокации: Берлин (III военный округ).
Вопреки распространенному заблуждению, дивизия «Гроссдойчланд» не относилась ни к дивизиям СС, ни к танковым дивизиям. На различных этапах своего существования она была моторизованным полком вермахта и моторизованной дивизией. Однако по составу она была танковой дивизией, вследствие чего многие ее относят к танковым дивизиям, и поэтому она рассматривается в данной книге. Однако официального наименования «танковая дивизия» она никогда не носила, и причины этого автору неизвестны.
Историю дивизии можно проследить начиная с 21 июня 1921 года, когда был сформирован полк охраны Берлина. Каждый день ровно в полдень одна из рот полка в сопровождении военного оркестра проходила маршем через Бранденбургские ворота и по Унтерден-Линден. Однако в июне 1922 года полк был преобразован в отряд охраны Берлина фактической численностью около батальона. Наименование «Гроссдойчланд» (буквально — «Великая Германия») он получил лишь в июне 1939 года, когда он был развернут в полноценный полк, состоявший из четырех моторизованных батальонов.
«Гроссдойчланд» был направлен на полигон Графенвер для обучения действиям в качестве моторизованной части. Боевое крещение он получил в составе XIX корпуса Гудериана во время вторжения во Францию, где принял участие в форсировании Мааса, в решающей битве под Седаном и в наступлении к побережью Ла-Манша. Позднее он участвовал в прорыве «линии Вейгана», переправе через Сену и преследовании разваливающейся французской армии. 19 июня полк вступил в Лион.
В июле 1940 года полк получил 17-й мотоциклетный батальон и был направлен в Эльзас, где проходил подготовку к высадке в Великобритании. Впоследствии, усиленный артиллерийскими и зенитными частями, полк «Гроссдойчланд» принимал участие во вторжении в Югославию, где в том числе захватил белградскую радиостанцию. После спешной переброски на север полк принял участие во вторжении в СССР, переправившись через Буг вместе с 7-й танковой дивизией. Он вел бои под Белостоком и Минском (24 июня— 6 июля), преследовал советские войска, отступавшие к Днепру (7–10 июля) и участвовал в прорыве советской обороны по Днепру, где бои шли особенно ожесточенно и нередко доходили до рукопашной (11–14 июля). Полк «Гроссдойчланд» также принимал участие в боях под Смоленском (14–20 июля) и в штурме позиций на Десне (18–23 июля). Он вел оборонительные бои под Ельней (24 июля — 22 августа) и на Десне (18–30 августа), после чего принял участие в сражениях под Киевом и последующем преследовании советских войск (сентябрь 1941 года). Затем полк «Гроссдойчланд» участвовал в боях восточнее города Ромны (26 сентября — 3 октября), в двойном сражении на окружение под Вязьмой и Брянском (10–20 октября) и в последующей попытке наступления на Москву. Он вел упорные бои в районе Тулы с 21 октября по 5 декабря. Когда 6 декабря началось зимнее наступление советских войск, элитный полк понес тяжелые потери, а его мотоциклетный батальон был практически истреблен под Тулой, в районе Колодезной. На 6 января 1942 года потери «Гроссдойчланда» на Востоке составляли 900 человек убитыми, 3056 ранеными и 114 пропавшими без вести, что составляло более половины его численности. Однако полк остался на фронте и понес столь тяжелые потери в боях под Орлом, что его II батальон пришлось расформировать.
Тем временем было сформировано еще несколько батальонов «Гроссдойчланд» и было принято решение развернуть моторизованный полк «Гроссдойчланд» в полноценную моторизованную дивизию. Новая дивизия была сформирована 3 марта 1942 года на полигоне Вандерн под Берлином. Солдаты и офицеры дивизии должны были обладать отличным здоровьем (так, например, не допускалось использование личным составом дивизии очков), быть в отменной физической форме, не иметь криминального прошлого и быть политически благонадежными. Как и ее предшественники, дивизия комплектовалась отборными добровольцами со всей Германии. Неофициально дивизию называли «охраной германского народа». До самого конца войны дивизия «Гроссдойчланд» хорошо проявляла себя в боях. Тем временем в апреле 1942 года старый полк «Гроссдойчланд» был снят с фронта и присоединился к остальной дивизии на Днепре, в Речице.
На 21 мая 1942 года в состав дивизии входили: 1-й пехотный полк «Гроссдойчланд» (три батальона из прежнего моторизованного полка «Гроссдойчланд»), вновь сформированный 2-й пехотный (позднее — фузилерный) полк «Гроссдойчланд» (три батальона), танковый батальон «Гроссдойчланд» (бывший I батальон 100-го танкового полка), вновь сформированный мотоциклетный батальон «Гроссдойчланд», дивизион истребителей танков «Гроссдойчланд» (бывший 643-й дивизион истребителей танков), танковый артиллерийский полк «Гроссдойчланд» (три дивизиона), армейский зенитно-артиллерийский дивизион «Гроссдойчланд» (бывший 285-й армейский зенитно-артиллерийский дивизион), самоходно-артиллерийский дивизион «Гроссдойчланд» (бывший 192-й самоходно-артиллерийский дивизион), танковый саперный батальон «Гроссдойчланд» (бывший 43-й саперный батальон) и танковый батальон связи «Гроссдойчланд» (бывший 309-й батальон связи).
Появившись сначала в составе 4-й танковой армии на южном направлении Восточного фронта в июне 1942 года, дивизия была вскоре переброшена на север, где участвовала в нескольких оборонительных сражениях под Ржевом (10 сентября — 10 января 1943 года). В конце ноября она была практически окружена в долине Лучесы восточнее Ржева несколькими советскими танковыми частями и потеряла более 10 тысяч человек, прежде чем ей удалось выбраться. Тем не менее дивизия оставалась на фронте до января. После спешной переброски на юг дивизия вела бои под Харьковом (19 января — 31 марта 1943 года) и помогла отбить город, после чего была выведена в резерв в Смоленск. Здесь дивизия получила пополнения и, помимо прочего, штаб танкового полка «Гроссдойчланд» (бывший штаб 203-го танкового полка) и II батальон танкового полка «Гроссдойчланд» (бывший II батальон 203-го танкового полка). Ее мотоциклетный батальон был переформирован в танковый разведывательный батальон. Кроме того, дивизия получила IV артиллерийский дивизион, а танковый батальон «Гроссдойчланд» стал I батальоном танкового полка «Гроссдойчланд». 1 июля 1943 года в состав дивизии вошел батальон «тигров», ставший III батальоном танкового полка «Гроссдойчланд», и дивизия стала танковой дивизией по всем параметрам, кроме названия. Фактически она располагала 300 танками и была значительно сильнее средней танковой дивизии 1943 года.
После отдыха и пополнения с конца марта по 5 июля 1943 года дивизия «Гроссдойчланд» в составе 4-й танковой армии участвовала в операции «Цитадель». Дивизия «Гроссдойчланд» вела бои под Курском (5–12 июля), обороняла Харьков, обороняла Орел и Брянск (18 июля — 5 августа), вела оборонительные бои западнее Харькова (6 августа — 14 сентября) и участвовала в отступлении за Днепр (15–28 сентября). Бои были настолько упорны, что к 29 сентября в дивизии остался всего один боеспособный танк. Остаток года дивизия в основном провела в обороне на участке Днепра под Кременчугом.
1944 год не принес отдыха потрепанной дивизии. Она сражалась под Кировоградом (5–16 января), в нижнем течении Днепра (19 января — 6 марта), севернее Николаева и при отступлении к Бугу (7–27 марта). Тем временем дивизия была усилена совершенно новым 26-м танковым полком, полностью оснащенным новыми танками Pz-V «Пантера». Однако большинству из них была суждена короткая жизнь, так как полк был серьезно потрепан в февральских боях под Черкассами. 26-й танковый полк был отправлен на переформирование во Францию, оказался втянутым в бои в Нормандии и вновь присоединился к дивизии только в октябре. К счастью для дивизии «Гроссдойчланд», ее собственный танковый полк также получил подкрепления. Теперь он состоял из I батальона (пять рот на «пантерах»), II батальона (пять рот на Pz-IV) и III батальона (четыре роты на «тиграх»). Однако основным подкреплением дивизии стал 1029-й усиленный моторизованный полк «Гроссдойчланд», сформированный из резервов дивизии. В его состав входили два моторизованных батальона, артиллерийский дивизион и две противотанковые батареи.
К концу марта дивизия «Гроссдойчланд» была вытеснена с территории СССР в Румынию. Она сражалась на севере Бессарабии и в Прикарпатье (27 марта — 25 апреля), вела оборонительные бои на севере Молдавии (26 апреля — конец мая) и участвовала в контратаках севернее Ясс (2–6 июня).
Во время майского затишья фузилерный полк «Гроссдойчланд» был отведен в тыл и на некоторое время вернулся в Германию, где был полностью оснащен полугусеничными бронетранспортерами. Однако и этот полк, и моторизованный полк «Гроссдойчланд» понесли такие потери, что в них пришлось расформировать четвертые батальоны. Фузилерный полк вернулся на фронт как раз к началу контрнаступления под Яссами, где он понес огромные потери, вследствие которых пришлось расформировать I батальон. Вскоре после этого был расформирован 1029-й полк «Гроссдойчланд», а остатки его личного состава были использованы для восстановления I батальона фузилерного полка. После Ясс танковый саперный батальон «Гроссдойчланд» был усилен почти до уровня полка.
В августе дивизия вновь была брошена на важнейшее направление Восточного фронта — под Гумбиннен (Восточная Пруссия). Группа армий «Север» была окружена в Прибалтике, и дивизия «Гроссдойчланд» была одним из соединений, которым было поручено пробить коридор через кольцо окружения. Дивизии удалось выполнить задачу к 25 августа. Затем на участке фронта Восточная Пруссия — Литва — Латвия наступило затишье, продолжавшееся больше месяца. Однако Гитлер не воспользовался этой возможностью, чтобы отвести 16-ю и 18-ю армии. 5 октября советские войска начали массированное наступление, в результате которого группа армий «Север» была вновь блокирована в Курляндии. Дивизия «Гроссдойчланд» была оттеснена на Мемельский плацдарм, с которого была эвакуирована в Восточную Пруссию силами немецкого флота в конце 1944 года.
Остатки некогда гордой моторизованной дивизии «Гроссдойчланд» были переформированы в районе Вилленберга (Восточная Пруссия) в январе 1945 года. 15-го числа того же месяца дивизии вновь пришлось вступить в бой, когда силы двух советских фронтов устремились к Кёнигсбергу. После упорных февральских оборонительных боев в начале марта дивизия «Гроссдойчланд» нанесла внезапный удар, восстановив сообщение между столицей Восточной Пруссии и Эрмландом. Однако противник был слишком силен, и дивизии пришлось отступать через Фришес-Хафф из Эрмланда в Замланд. После двухнедельного затишья она вновь вынуждена была вести бои при отступлении через Замланд (в том числе под Пилау) и при обороне косы Фрише-Нерунг (12–30 апреля 1945 года). В день самоубийства Гитлера дивизия продолжала держать оборону. За период с 15 января по 22 апреля 1945 года дивизия потеряла 16 988 человек. В строю оставалось всего 4000 человек. Эти остатки были эвакуированы немецким флотом и высажены на берег в Шлезвиг-Гольштейне, где и сдались в плен британским войскам.
Полком (впоследствии — дивизией) «Гроссдойчланд» командовали: полковник (генерал-майор) Вильгельм-Хунольд фон Штокхаузен (принял командование 1 июня 1939 года), полковник (генерал-майор, генерал-лейтенант) Вальтер Хернлейн (1 апреля 1941 года), генерал-лейтенант барон Хассо фон Мантойфель (1 февраля 1944 года) и полковник (генерал-майор) Карл Лоренц (1 сентября 1944 года). Среди исполнявших обязанности командира был генерал-лейтенант Герман Бальк (3 апреля — 30 июня 1943 года).
Командиры
Вестфалец ВИЛЬГЕЛЬМ-ХУНОЛЬД фон ШТОКХАУЗЕН (р. 1891) поступил на службу в 80-й фузилерный полк фенрихом в 1911 году. Он руководил унтер-офицерской школой в Потсдаме (1936–1939 гг.), а в 1939 году занял должность командира моторизованного полка «Гроссдойчланд». Впоследствии он командовал 1-й моторизованной бригадой (1941–1942 гг.) и 281-й охранной дивизией (1942 г. — июль 1944 г.). После этого он в течение пяти месяцев не занимал никаких должностей, вероятно, вследствие ранения. К этому времени он был произведен в генерал-майоры (1 апреля 1942 года) и генерал-лейтенанты (1944 год). В конце 1944 года он принял командование боевой группой в Восточной Пруссии и командовал ею до самой капитуляции. Советские власти выдали его Югославии, где он пробыл в заключении до 1952 года. После освобождения он поселился в Кобленце.
ВАЛЬТЕР ХЕРНЛЕЙН (р. 1893) — офицер, чье имя чаще всего связывают с дивизией «Гроссдойчланд». Он поступил на службу в кайзеровскую армию в 1912 году и поочередно командовал I батальоном 69-го пехотного полка (1936–1939 гг.), 80-м пехотным полком (1939–1941 гг.), моторизованным полком «Гроссдойчланд» (1941–1942 гг.), дивизией «Гроссдойчланд» (1942–1944 гг.), LXXXII корпусом (1944–1945 гг.), II военным округом (1945 год) и XXVII корпусом (1945 год). Он получил звание генерал-майора 1 апреля 1942 года, стал генерал-лейтенантом 1 января 1943 года, а 1 ноября 1944 года ему было присвоено звание генерала пехоты. За время войны награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями. После войны поселился в Кёльне, где и умер в 1961 году.
Краткое описание военной карьеры ХАССО фон МАНТОЙФЕЛЯ приведено в главе «7-я танковая дивизия». Описание военной карьеры БАЛЬКА приведено в главе «11-я танковая дивизия».
КАРЛ ЛОРЕНЦ (р. 1904) к началу Второй мировой войны командовал всего лишь ротой (1-я рота 18-го саперного батальона). Он быстро продвигался по службе, в основном в дивизии «Гроссдойчланд», командуя 290-м саперным батальоном (1940–1942 гг.), саперным батальоном «Гроссдойчланд» (1942 год), моторизованным полком «Гроссдойчланд» (1942–1944 гг.) и, наконец, самой дивизией. Он был произведен в генерал-майоры 1 сентября 1944 года. Умер в 1964 году.
Примечания:
Во время боев во Франции дивизии были приданы 43-й саперный батальон и 640-й самоходно-артиллерийский дивизион (шесть САУ «Штурмгешютц-III»).
Штаб танкового артиллерийского полка «Гроссдойчланд» был сформирован весной 1942 года на базе штаба 622-го артиллерийского полка. Тремя его дивизионами стали 400-й артиллерийский дивизион, I дивизион 109-го артиллерийского полка и 646-й артиллерийский полк.
Последняя крупная реорганизация дивизии «Гроссдойчланд» произошла в декабре 1944 года. Ее танковый и моторизованные полки были сокращены до двух батальонов в каждом, артиллерийский полк был сокращен до трех дивизионов, а самоходно-артиллерийский дивизион был передан дивизии «Бранденбург» в качестве II батальона танкового полка «Бранденбург». III батальон танкового полка «Гроссдойчланд» стал тяжелым танковым батальоном «Гроссдойчланд», был выведен из состава дивизии и стал частью корпусного подчинения в корпусе «Гроссдойчланд». То же произошло и с другими батальонами, которые дивизия потеряла в этом месяце, за исключением самоходно-артиллерийского дивизиона.
Приложения
Таблица соответствия воинских званий
| Немецкая армия | СС | Советская армия |
| лейтенант | унтерштурмфюрер | лейтенант |
| обер-лейтенант | оберштурмфюрер | старший лейтенант |
| гауптман | гауптштурмфюрер | капитан |
| майор | штурмбаннфюрер | майор |
| подполковник | оберштурмбаннфюрер | подполковник |
| полковник | штандартенфюрер | полковник |
| — | оберфюрер | — |
| генерал-майор | бригадефюрер | генерал-майор |
| генерал-лейтенант | группенфюрер | генерал-лейтенант |
| генерал | обергруппенфюрер | генерал-полковник |
| генерал-полковник | оберстгруппенфюрер | генерал |
| фельдмаршал | — | маршал |
Предыдущая24Следующая