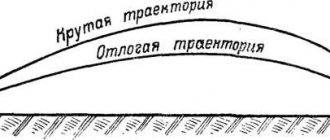Стратегическое положение
Одиннадцатое ноября 1918-го был днём величайшего триумфа французской армии. В Европе и Германия, и Россия не являлись её конкурентами по военной мощи, а новые державы были многим обязаны Франции и намного слабее её. Более того — французские войска вошли на территорию Германии для обеспечения репараций. Естественно, первые послевоенные планы были наступательными — тем более, что их поддерживали верные союзники бельгийцы.
Но Франция была крайне истощена. Потери были рекордными. Экономика разрушена. Страна в долгах как в шелках. Всё это вызвало резкое сокращение военного бюджета и, соответственно, постепенное устаревание вооружения.
Разрушенный войной Ланс (источник фото)
Уже через десять лет после окончания войны разведка стала пугать ростом возможностей немцев. При этом пугали бомбардировочной авиацией, которую немцам официально запретили. Мнение разведки о том, что немцы превратят пассажирские самолёты в бомбардировщики и разбомбят Париж, хоть и было излишне пессимистичным, но имело некоторое основание. Достаточно сказать, что во время дружественного визита итальянских гидросамолётов новейшие французские истребители не смогли их сопровождать — не хватало скорости. Более того, французская разведка пугала 400-тысячным рейхсвером! Якобы немцы тайно умудрились вчетверо превзойти версальские ограничения.
Тут уже пришлось задаться вопросом — а не слишком ли много разведчики употребляли чего-то богемного?
Последней каплей для изменения планирования стал переход на одногодичный срок службы, после чего и так не слишком большая армия стала окончательно завязана на проведение мобилизации. Пока же она не закончилась, боеспособность 300-тысячной французской армии оставалась весьма сомнительной. Ни о каких наступательных операциях до завершения мобилизации и развёртывания речи не могло быть.
Кроме того, важнейшие французские ресурсы — уголь и руда — находились прямо на границе, буквально в километрах от Германии. И разумеется, с Германией граничили Лотарингия и Эльзас — всё, что было нажито непосильным трудом в Первой мировой, могло сразу оказаться под ударом. После отказа от наступательных планов стало ясно, что необходимы укрепления, которые позволили бы армии спокойно отмобилизоваться и развернуться. Эти мысли, родившиеся в армейской среде, получили и политическую поддержку.
Европа после Первой мировой (источник фото)
Но были и нюансы, которые ограничивали желание залить всю границу бетоном. Во-первых, Бельгия.
Бельгия — это не только много-много отличных крепостей, но и тридцать дивизий.
Грех терять такого союзника. Потому строить линию укреплений на франко-бельгийской границе политически неверно — это может вызвать у союзника подозрение, что его собираются бросить на растерзание бошам. Да и вести войну на территории Бельгии французам было бы куда приятнее, чем у себя дома — благо север Франции едва-едва залечил раны, нанесённые Первой мировой.
А во-вторых, был Саар. То есть у Франции его пока не было. Пока. А вот войска в нём были. И оставалась надежда, что Саар (подмандатный Лиге Наций) удастся сделать французским. В тридцатые годы плебисцит жестоко растоптал эти надежды, но во времена планирования Линии не было очевидно, что голосование вообще проведут. Наличие Саара и войск в нём толкало французов к наступлению на территорию Германии в этом направлении.
История[править]
Первая мировая война показала, что любое сколь угодно сильное укрепление можно разрушить — надо просто долбить в это место снарядами до посинения. Поэтому от отдельных фортов перешли к распределённым укреплениям, когда на поле боя в кажущемся беспорядке устанавливались сотни отдельных небольших объектов: огневых точек, бункеров, погребов, наблюдательных пунктов. Малые размеры облегчали маскировку и применение к местности. Бетонные стены выдерживали как минимум попадания 6-дюймовых снарядов — самых тяжёлых из «массовой» артиллерии (кстати, до сих пор). Более крупных пушек мало, они громоздки — пока их подвезут, да пока они умудрятся попасть в каждый из сотен отдельных бункеров — это сколько времени пройдёт?..
Впервые эту систему применили немцы в 1916-18 у крепости Мец. В боях она не участвовала, но французы, осматривавшие уже после войны эти укрепления, честно признали, что вряд ли смогли бы их взять. Пример оказался заразительным, и почти все европейские страны в промежутке между войнами строили не крепости, а «линии»[1].
Планирование
Хотя Линия получила имя человека гражданского — военного министра, при котором удалось «пробить» её финансирование, — стратегический замысел родился, конечно же, в военных кругах. Правда, первоначально было неясно, стоит ли вообще строить долговременные укрепления, которые, как показала Первая мировая, достаточно легко разрушались вражеской артиллерией. В качестве альтернативы предполагалось создать «подготовленное поле сражения», то есть укрепления, более близкие к полевому типу, меньшие по размерам и потому лучше рассредоточенные, что особенно важно, — в глубину. За такое решение выступал Петен.
Маршалы Жоффр и Вейган отмечали, что традиционно оборона Франции строилась с помощью маневрирующих около крепостей армий. Они предлагали вместо непрерывной «Великой Китайской стены» построить на важных направлениях крупные крепости. Против последнего особенно яро выступал тот же Петен, указывая на опыт Первой мировой и уязвимость крепостей перед артиллерийским огнём. В итоге сошлись на некоем промежуточном варианте.
Мощные укрепления возвели не по всей длине границы, а сосредоточили в двух укреплённых районах — около Меца и южнее, в Эльзасе. Саарскую брешь между ними, а также границу вдоль Рейна решили прикрыть лишь более слабыми промежуточными казематами. Кроме того, построили несколько более слабые, чем основные, укрепления на Корсике и вдоль франко-итальянской границы.
Замецки
Укрепления на юге назывались Альпийской линией. Или Маленькой линией Мажино.
Сами форты представляли собой огромные сооружения — как правило, с двумя-тремя, а то и с десятком боевых блоков, — вооружённые пулемётными установками, противотанковыми и полевыми орудиями, гаубицами и миномётами.
От артиллерии противника свои орудия прикрывались поднимающимися башнями. Они могли пережидать артобстрел в закрытом состоянии, подставляя снарядам противника только толстую крышу, а с началом штурма выдвигаться вверх, показывая жерла орудий.
Большое внимание уделялось вопросам снабжения укреплений. Речь даже не о знаменитой подземной узкоколейке. Обычным делом было создание тыловых блоков, прикрывавших вход, от которого на передовую тянулись достаточно длинные подземные ходы.
Схема одного из укреплений Линии из пропагандистской брошюры. Впечатляюще, но от реальности далековато.
Бюджет и танки
Часто можно услышать, что французы гораздо лучше могли потратить огромные деньги, пущенные на линию Мажино, развив танки и авиацию. Однако такой подход не учитывает множество деталей. Во-первых, расходы на Линию велики относительно бюджета потому, что сам бюджет в этот момент был очень мал. Как раз с завершением основных работ на Линии резко возросли расходы — эти деньги шли именно на авиацию и подвижные соединения.
Более того, такое положение было отчасти запрограммировано. В начале 30-х годов в Европе свирепствовала депрессия и было не до войны.
Если потратиться на танки и авиацию, то они, как наиболее бурно развивающиеся рода войск, могут устареть (и таки устареют, как показала практика).
Укрепления же будут устаревать не столь быстро. Такой аргумент тоже использовался в дебатах. Кроме того, в танковых войсках, как и в авиации, просто не имелось подходящей матчасти, которую не стыдно было бы поставить в производство. Но французские военные инженеры дали весьма совершенные образцы укреплений.
Чешская линия Мажино
Каждое государство заботится о защите своих границ, и фортификация занимает в этом вопросе важное место. Появление усовершенствованных видов вооружения, огромных армий, новых форм и методов ведения боевых действий — всё это повлияло на развитие фортификации, в которой в XX столетии произошёл настоящий переворот. Охваченные «фортификационной лихорадкой» государства выделяли огромные средства на строительство укреплений. Не осталась в стороне и Чехословакия. Что она предприняла в этом отношении и как сложилась судьба фортификационных сооружений этого государства — в материале нашего читателя.
Пролог
Первая мировая война заставила пересмотреть привычную фортификационную концепцию. Военные инженеры пришли к выводу, что изолированные и замкнутые форты и отдельные крепости, служившие в прошлом надёжными центрами обороны, в новых условиях не оправдывают возложенных на них надежд. Боеприпасы и провиант в них быстро заканчивались, гарнизоны несли потери. Суть новой концепции сводилась к сооружению множества разветвлённых позиций. Считалось, что такие укрепления трудно обнаружить, а ещё труднее уничтожить. Давал о себе знать и опыт позиционной войны. Применение тяжёлой артиллерии поставило вопрос о строительстве на позициях бетонных и железобетонных сооружений. Так появилась идея фортификационных линий, прикрывавших границы. Общая протяжённость таких линий могла колебаться в пределах от 50 до 5000 км. Их основу составляли УРы — укреплённые районы. В ХХ веке большинство стран Европы начали строительство УРов и линий укреплений.
L.O. vzor 37 A-160. Орлицкие горы, Судеты, Чехия
В Бельгии, Польше, СССР и Франции строительство первых укреплений началось в 1928 году. В Европе появились линия Мажино (Франция), Альпийский вал (Италия), линии Сталина и Молотова (СССР), а также линия Зигфрида (Германия).
Зачем строить укрепления?
Распад могущественной Австро-Венгерской империи в 1918 году кардинально изменил карту Европы. Начали появляться новые государства: Венгрия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Австрия, Польша, Румыния, Югославия. Была среди них и Первая Чехословацкая Республика, провозглашённая в Праге 28 октября 1918 года.
Какое-то время это была экономически развитая страна, занимавшая десятое место в мире по объёму промышленного производства. Однако в начале 1930-х годов Чехословакию настиг экономический кризис. Регресс экономики острее всего ощущался в приграничных районах. Эти территории населяли национальные меньшинства, бо́льшая часть из которых — в частности, немцы — с интересом прислушивалась к немецкой пропаганде. Чехословакия имела непростые отношения с Венгрией, Польшей и Австрией. Министр иностранных дел Чехословакии Эдвард Бенеш возлагал большие надежды на Лигу наций, которая, по его мнению, могла бы урегулировать территориальные проблемы государства с агрессивными соседями. В 1932 году он обратил внимание министра национальной обороны Богумира Брадача и начальника штаба армии Яна Сировия на то, что может возникнуть реальная угроза военного конфликта. Малая Антанта не гарантировала чехам защиты от немецкой экспансии, поэтому страна нуждалась в сильном союзнике. Чехословацкое правительство долго его искало, заключая различные соглашения с Югославией, Румынией и СССР. Однако после прихода к власти в Германии нацистов и дестабилизации обстановки на западных границах правительство страны решило пойти другим путём и возвести мощную систему фортификации на границе с Германией и другими странами.
На строительство укреплений было выделено 10,8 млрд крон. Однако не только они должны были предотвратить нападение Германии. Колоссальные средства тратились на армию и её перевооружение. В 1938 году половина государственного бюджета отводилась на модернизацию вооружённых сил.
Для Чехословакии сооружение укреплений было новым и перспективным делом. Заказ оборудования и строительных материалов позволил привлечь бо́льшую часть населения к работе на пострадавших от недавнего экономического кризиса предприятиях и в военной промышленности. С точки зрения стратегической обороны Чехословакия находилась в крайне сложном положении. Протяжённость её границ составляла 4098 км, и построить непрерывную укреплённую полосу такой длины было сложной задачей.
Чехословацкое укрепление на немецкой открытке 1939 года
Другой проблемой было отсутствие нужного для успешной обороны количества дивизий. С имевшимися материальными и человеческими ресурсами создать современную армию было почти невозможно. По подсчётам военных специалистов, между Одером и Усти-над-Лабем на участке в 400 км противник мог развернуть около 35 дивизий. Для защиты этого участка армия должна была выставить как минимум 25 дивизий. Защита полосы укреплений длиной 330 км требовала 45 000 человек плюс две дивизии для обороны Исполиновых гор и Есеникского района. Для защиты границы только с Германией на первой линии нужны были 90–110 дивизий, в то время как в 1938 году Чехословакия имела лишь 26 соединений: 2 млн личного состава при поддержке 1582 самолётов, 469 танков и 5700 орудий разных калибров. Разветвлённая сеть дорог позволяла быстро развернуть войска и провести мобилизацию, но даже этот фактор не мог изменить общую ситуацию. Возможный удар в направлении Клодзская долина–Брно–Микулов мог разрезать страну на две части.
В связи с этим было принято решение о строительстве укреплений, которые защитили страну по следующим направлениям:
- Ополе–Моравские ворота–Моравская долина;
- Клодзская долина–Брно;
- Клодзская долина–Прага;
- Валбжих–Прага.
Фортификационные планы и начало строительства
Для строительства укреплений 12 декабря 1934 года ROP (Ředitelství opevňovacích prací — Дирекция фортификационных работ) приняла первую фортификационную программу. Она предусматривала строительство в пять этапов тяжёлых укреплений от Одера до Эльбы. Работы максимально маскировались, что в условиях многочисленного немецкого населения было непростой задачей. Карты местности, открытки, журналы, на которые можно было нанести расположение сооружений, изымались из продажи. В некоторых областях вводился запрет на рисование и фотографирование.
Вторая фортификационная программа была утверждена 5 июня 1936 года. Она предусматривала строительство мощных укреплённых линий, разделённое на этот раз на четыре этапа. Существовал и недостаток: все силы должны были размещаться в укреплениях, а ресурсов для мобильных войск не оставалось вовсе.
Третью программу утвердил 9 ноября 1937 года начальник ROP Карл Гусарек. Он предложил план строительства двух полос лёгких укреплений типа vz.37 по всей длине северной границы. Наиболее уязвимые участки планировалось закрыть усиленной линией тяжёлых сооружений. Предполагалось, что все работы завершатся к концу 1951 года. За 15 лет планировалось построить 1276 тяжёлых и 15 463 лёгких объектов. В одном только в секторе между Одером и Эльбой должно было появиться 564 тяжёлых укрепления, а ещё 105 — между Врановской плотиной и Бржецлавом. Обошлась бы программа почти в 11 млрд долларов.
Построенные к 1938 году укрепления. Красным цветом отмечены тяжёлые и лёгкие укрепления, зелёным — только лёгкие
Чехословацкие укрепления были разделены на семь основных участков:
- северный фронт между Одером и Эльбой;
- северо-западный и западный фронты с множеством укреплённых линий;
- южный фронт между Влтавой и Дунаем у Братиславы;
- южный фронт на границе с Венгрией;
- северный фронт на границе с Польшей;
- укрепление в Моравском нагорье и к востоку от Моравии.
В Моравско-Силезском крае на границе с Германией по состоянию на 1938 год работы были завершены на 75%. Границы с Польшей, Венгрией и Румынией были укреплены преимущественно лёгкими типами бункеров. В 1936–1938 годах было всего построено 8040 объектов (без Словакии):
- Юго-западный сектор — 3993 объекта;
- Северная Чехия — 1852 объекта;
- Южная Моравия — 1000 объектов;
- Северная Моравия — 1195 объектов.
На территории Словакии, включая Братиславский плацдарм, было построено 11 тяжёлых и 1943 лёгких объекта. Самые мощные фортификации были возведены по обеим сторонам Орлицких гор и простирались от окрестностей Находа до Краликов.
Полоса укреплений включала в себя как средние, так и лёгкие бункеры с линиями препятствий, в том числе противотанковых, а также тяжёлые казематы, как на линии Мажино во Франции. В 1938 году строительство фортификационных сооружений завершилось. Чехи создали более совершенную систему обороны, чем бельгийцы или французы, отказавшись при этом от привлечения иностранных строительных компаний или рабочей силы из Германии. Чехословацкие пограничные укрепления, которые простирались почти по всей стране, немцы называли линией Бенеша.
Основные типы сооружений
Чешские долговременные фортификационные сооружения можно условно разделить на три категории:
- Лёгкие укрепления. Они состоят из двух типов: LO vz.36 (Lehké opevnění vzor) и LO vz.37. Это небольшие железобетонные сооружения с несколькими амбразурами для ведения огня. Между 1936 и 1938 годами было построено более 10 000 таких бункеров;
- Тяжёлые укрепления. Иногда их называют блокгаузами. Это были мощные железобетонные сооружения IV степени устойчивости (толщина стен составляет 3,5 м) — как казематы для пехоты, так и артиллерийские блоки. Они могли образовывать не только отдельные защитные точки, но и сплошную группу из блоков;
- Артиллерийские крепости — «тверзи» (tvrz). Это были тяжёлые блокгаузы, образовывавшие замкнутую систему наподобие крепости. Они включали пехотные блоки, входные объекты, миномётные блоки и наблюдательные башни.
LO vz.37. Горный хребет Шумава, 1938 год
Судьба чешских фортификаций
15 марта 1939 года нацистская Германия ввела в чешские земли войска и объявила о создании протектората Богемии и Моравии. Армия не оказала сопротивления. В распоряжение немцев попали не только внушительные запасы оружия, но и множество чешских долговременных укреплений. После захвата территории Чехословакии их проинспектировали представители специально созданного комитета, в который входили специалисты по фортификации. Немцы провели испытания по воздействию различных видов оружия на эти объекты. Огонь из пулемётов и миномётов не причинил им никакого вреда, а артиллерийский обстрел по большей части лишь разбросал земляные насыпи перед объектами. Бронированные колокола и купола также с честью пережили испытания.
Результаты настолько удивили немецких специалистов, что они демонтировали большинство куполов и установили их на собственных укреплениях. Особое внимание уделялось чешским 47-мм пушкам 4cm kanón vz.36, имевшим хорошие характеристики и удачную конструкцию. Большинство пушек было изъято из чешских казематов и в дальнейшем под названием 4,7cm PaK K 36(t) использовалось на укреплениях Атлантической стены, линии Зигфрида и в Мендзижецком укреплённом районе в Польше.
Один из наблюдательных колоколов
В конце войны укрепления в районе Опава–Острава были частично восстановлены и заняты немецкими дивизиями во время Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии в марте–мае 1945 года. Отверстия от куполов временно заливали бетоном, а вместо демонтированных пушек в казематах устанавливались обычные пулемёты. Подземные галереи служили немцам укрытием во время артиллерийского обстрела.
Неутешительные выводы
ХХ столетие вполне можно назвать «золотым веком» фортификации, которая развивалась под влиянием постоянно совершенствовавшегося оружия и стратегии ведения боевых действий. Сооружение огромных оборонительных полос и УРов накануне Второй мировой войны приняло массовый характер. Пожалуй, не было страны, где не появлялись бы фортификационные сооружения. Первая Чехословацкая Республика не стала исключением. Линия Бенеша оказалась весьма добротной для своего времени и в целом не уступала знаменитой линии Мажино.
Чешские долговременные укрепления, строительство которых началось в 1933 году, к моменту захвата страны немецкими войсками не были закончены. Лишь отдельные их участки были полностью готовы. Долговременные укрепления Первой Чехословацкой Республики ещё не прошли боевое испытание, как чешская армия покинула свои позиции и сдалась захватчикам. И всё же система чехословацких укреплений была вполне современной. В сочетании с благоприятными природными условиями для организации обороны и при наличии боеспособной армии они могли быть весьма эффективными и стали бы для врагов труднопроходимым барьером.
Владислав Гончаров
/
Бельгийский щит: начало
История строительства и устройство оборонительных сооружений форта Эбен-Эмаэль
- фортификация
- Бельгия
Игорь Мельников
/
«Линия Пилсудского»
Польские доты под Барановичами, построенные в 30-е годы на случай войны с Советским Союзом
- ВМВ
- фортификация
- Беларусь
- Польша
Алексей Стаценко
/
Памятник сталинской фортификации
История ДОТа №401 типа «мина» Киевского укреплённого района
- ВМВ
- фортификация
- СССР
Бельгийцы отказываются
Ключевым элементом французских планов было положение, что Бельгия безусловно станет союзником. Сначала с её территории планировали бросок за Рейн — в огненное сердце Германии, потом на её рубежах планировали обороняться. Но в 1936 году Бельгия объявила о нейтралитете — и это была катастрофа.
Король Бельгии Леопольд III был главным сторонником нейтралитета
До того момента вся система обороны строилась на предположении, что если уж придётся отбивать вражеское наступление через Бельгию, то делать это надо будет именно на её территории. Иллюзий по поводу возможностей бельгийцев оборонять нейтралитет никто не строил — было понятно, что если немцы выберут удар через эту страну, то в лучшем случае французам придётся действовать без предварительного плана. Так и случилось.
Были предприняты попытки прикрыть границу Бельгии заново построенными укреплениями, но наступила ситуация «денег нет, но вы держитесь». Точнее, деньги, конечно, были — но они уходили на авиацию и танки. Укрепления на Маасе и севернее были достаточно слабыми.
Мобилизация
Но если с прикрытием Бельгии были проблемы, то основную задачу — прикрыть мобилизацию и развёртывание — никто не снимал. В реальности, правда, получилось намного проще, чем ожидалось, — немцы занимались уничтожением Польши до конца сентября, им было не до французов. Но в дальнейшем Гитлер потребовал наступления на Западе, и тут уже немецкая военная машина забуксовала.
Сумасшедших, жаждущих штурмовать линию Мажино, в немецких штабах не нашлось.
Всё планирование закрутилось вокруг вторжения в Бельгию, Голландию и Люксембург — так что задачу ограничения немецкого вторжения Линия решила ещё на этапе планирования. Кроме того, быстро стало ясно, что осеннее наступление сомнительно в силу погодных условий — слухи о прекрасных европейских дорогах на 1939 год были сильно преувеличены.
Вторжение переносилось много раз — до рокового мая 1940 года.
Май 1940-го
Как известно, центральной идеей немецкого плана вторжения во Францию стал удар через лесистые Арденны. Это само по себе было большим риском. Но, ещё раз отметим, идеи удара через лучшие в дорожном плане территории франко-германской границы даже не рассматривались. Тем не менее, Франция придавала излишнее внимание этому участку. Удивительное дело — французы держали на хорошо укреплённых позициях больше войск, чем немцы, для которых этот участок был заведомо пассивный.
Немецкое наступление на запад
Выход за Маас означал выход за левый фланг укреплений Линии. Это сейчас мы знаем, что немцы планировали исполинский удар к Ла-Маншу с отрезанием главных англо-французских сил. В мае 1940 года казалось, что они могут ударить именно в тыл линии Мажино — благо операция была менее масштабной. И эти опасения получили подтверждения — наступающие повернули на юг и зашли в тыл укреплениям малого форта Ла Ферте.
Французское командование отреагировало быстро, выдвинув резервы. На штурм форта пошла 71 пехотная дивизия. Артобстрел результата не дал, но штурмовые группы сумели приблизиться к одной из поднимающихся башен и подорвать на ней сорокакилограммовый заряд взрывчатки. Башню заклинило. В ход пошли заряды поменьше и дымовые шашки, которые бросали в образовавшиеся бреши.
Немецкая реконструкция взятия укреплений Линии
Начался пожар, который заставил французов уйти в подземную галерею, соединявшую два блока форта. Немцы подобрались и к этому блоку — и вывели его из строя. Французы не сдались, затаившись в галереях. Связь с командованием у них сохранялась благодаря телефонной линии. Командование приказало держаться. Но пожары продолжались, и сержант из форта сообщил, что «держаться нет никакой возможности» и он вместе с командующим фортом «будет выбираться наружу». Однако сделать это они уже не смогли. Весь гарнизон — 107 человек — погиб от удушья.
Чуть позже немцы заняли укрепления в районе Мобёжа. Они были «второй очереди», построенные с существенной экономией средств и потому не очень мощные. Но главное — их штурмовали уже после того, как немецкие войска сумели зайти в тыл. Тем не менее, именно там выявились тенденции, которые в дальнейшем лишь подтвердились в ходе июньских боёв.
Немецкие солдаты около одного из разбитых укреплений
И авиация, и осадная (не говоря уж о полевой) артиллерия показали себя малоэффективными. Другое дело — знаменитые 88-мм зенитки. Они позволяли разбивать бронеколпаки наблюдения, лишая французов обзора. Они успешно стреляли и по бетону — правда, для уничтожения амбразур или пробития даже относительно тонкой тыловой стены требовалось много времени и боеприпасов.
Главное — французы не могли ничем помешать, ведь полевые войска покинули Линию, и обороняли её только гарнизоны. Артиллерийской поддержки не было, что помогало немцам. После этого на штурм сильно повреждённых укреплений шли штурмовые группы, и если им удавалось залезть на французские оборонительные сооружения и начать подрывать их с помощью специальных зарядов и выжигать огнемётами, то французам оставалось только умереть или сдаться.
Устройство[править]
Киевский укрепленный район, КиУР. Обведенные черным и пронумерованные участки — узлы обороны. Узел обороны № 3 крупным планом. Легенда карты в сноске[2]
Типичная «линия» состоит из отдельных укреплённых районов. Между районам могут быть промежутки — но как правило, это бездорожье, куда враг крупными силами не пойдёт. Укрепрайон состоит из нескольких узлов обороны. Узел обороны — это группа долговременных сооружений, имеющих единую систему огня и действующих под единым командованием. Как правило, узел прикрывает какое-либо направление (дорогу, дефиле) и состоит из нескольких ДОТов, связанных между собой линиями связи и зачастую потернами (подземными ходами). За рубежом узел обороны часто по-старому называли фортом.
ДОТ — долговременная огневая точка
— основная единица укрепрайона. Представляет собой хорошо защищённое сооружение с одной или несколькими амбразурами. В зависимости от времени постройки, страны и назначения ДОТы могли быть разными — от небольшого «однокомнатного» бункера на один пулемёт до 3-этажного «миллионника» с шестью амбразурами.
Система огня ДОТов может быть, если грубо, двух типов: фронтальной и косоприцельной.
- Фронтальная — самая простая, когда амбразура смотрит на противника. Плюсы: доступно пониманию даже неграмотного, очень просто применяется к местности, может обстреливать местность на большую дальность. Недостаток: заметна также издалека и выносится артиллерией немедленно после открытия огня. Типично для Линии Сталина и в меньшей степени — Линии Молотова.
- Косоприцельная — пресловутые казематы Буржа. К противнику ДОТ обращен глухой стеной, огневые точки расположены сбоку (и прикрыты с фронта дополнительной стеной). Обстреливают местность перед соседними ДОТами — а те, в свою очередь, прикрывают подходы к нашему. Плюсы: малая уязвимость. Минусы: сложно применять к местности; трудно для понимания пехотных командиров. Типично для Линии Маннергейма, широко использовалось в линии Ленинград-43.
В принципе оба варианта имеют свою область применения, и реальные укрепрайоны, как правило, сочетали и ту и другую систему.
- ДЗОТ — деревоземляная огневая точка
. ДОТ для бедных, сооружаемый из спичек и желудей силами пехоты. Относится к полевым укреплениям и строится непосредственно во время войны, на линии военного времени.
Противотанковый ров
— принадлежность многих укрепрайонов. Идея, как всегда, была хорошая: делаем ров зигзагообразным. В изломах ставим противотанковые пушки для продольного обстрела рва (да, как в бастионах). Даже если танк в принципе может преодолеть ров, он будет вынужден снизить скорости и буквально «переползать» его. Или вообще ждать сапёров. Тут-то ему в борт и прилетит.
В реальности всё вышло хуже. Ров не замаскируешь. Его изгибы с точностью до метра показывают, где должны стоять фланкирующие пушки. После этого обнаружить их и уничтожить (хотя бы ослепить) — дело нехитрое. Сами стенки рва (эскарп и контрэскарп) обрушиваются подрывными зарядами, бомбами или огнём артиллерии. Так что реально от рвов бывало больше вреда, чем пользы. Всю позицию демаскируют. Контратаку провести не дают. А пехота противника, прорвавшись к нему, уже имеет какую-никакую укрытую позицию, где может отсидеться и продолжить атаку[3]. Да и трудозатраты просто дикие. Так что с приобретением опыта рвами злоупотреблять перестали.
Надолбы и «ежи»
— тоже противотанковые препятствия, но в отличие от рвов более практичные. Дешёвые. Трудозатраты на установку небольшие. Разбиваются только прямым попаданием (то бишь по снаряду на штуку, даже если попадёшь — не жирно ли?). Полностью непроходимыми не являются, но как минимум вынуждают танки ползти, а не лететь — и при этом, в отличие от рва, не «подсказывают», с какой стороны пушки стоят. Так что в том или ином виде применяются до сих пор.
Проволочные заграждения
— препятствия против пехоты. Уже в фортах XIX века применялись кованые железные решётки. Они устанавливались во рвах вертикально. Штурмующим приходилось под огнём перелезать через них, в то время как эти решетки не мешали обороняющимся стрелять и наблюдать сквозь них. Недостатки: дороговизна, трудность замены при повреждении. Поэтому в дальнейшем заимствовали из полевых укреплений колючую проволоку. Во рвах стали размещать проволочные заграждения на низких кольях, во всю (или почти во всю) ширину рва (10..20 м). Другие варианты — высокие колья и спирали Бруно — использовали реже, так как они демаскируют позицию. В дальнейшем при постройке укрепрайонов применялись все имеющиеся разновидности.
Мины
— тоже неотъемлемая часть укрепрайонов. Первые, ещё несовершенные противопехотные мины применялись в Гражданской Войне в США (как, кстати, и колючая проволока). Второй раз о минах вспомнили в Первую мировую, где они использовались для усиления и без того непрогрызаемой обороны. Но всё это в полевой войне. Для фортификаторов же слово «мина» по-прежнему означало адскую машину, взрываемую в подкопе под вражеские укрепления. Кстати, такие штуки реально использовались и под Порт-Артуром (1904), и в Первую мировую в битве на Сомме (1916).
С началом же строительства долговременных укрепрайонов мины стали их неотъемлемой частью. Сначала противопехотные, затем и противотанковые. При этом назначение минных полей могло быть различным:
- часть ставилась на путях движения войск (дорогах, просеках) и прикрывалась огнем ДОТов для предотвращения разминирования.
- другие, напротив, ставились на подступах к ДОТам вне их секторов обстрела, чтобы исключить приближение штурмовых групп.
Несмотря на отдельные вопли в пользу запрещения мин, реально они до сих пор широко применяются.
Примечание
: надо понимать, что в отличие от крепостей укрепрайоны никогда не предназначались для самостоятельной обороны: во-первых, у них по определению был открытый тыл, а во-вторых, помимо гарнизонов ДОТов было необходимо «пехотное заполнение» позиции, иначе отдельные ДОТы легко блокируются и уничтожаются (что часто и имело место).
Прорыв
В июне немцы запланировали глобальное наступление с прорывом Линии в нескольких местах. Но тут снова бетон сказал веское слово — попытки удались лишь на самых слабозащищённых участках. Сильно упрощало немцам задачу то, что к этому моменту полевое заполнение (то есть части, которые должны были сидеть в окопах около дотов) уже отвели. Вместе с ним ушли и артиллерийские части, что было особенно важно.
Казалось бы, дальше — дело техники. Зачастую укрепления штурмовались с тыла, поскольку их удавалось обойти за счёт прорыва по реке Эне. Но на деле бои часто принимали крайне упорный характер. Более того — там, где у французов была взаимная артиллерийская поддержка фортов, им удавалось отбиваться, несмотря на ухищрения немцев, включая зенитки, пикирующие бомбардировщики и штурмовые группы. Так, форт Шоненбург, несмотря на интенсивную бомбардировку тяжёлой артиллерией и авиацией, успел отстрелять 15 802 одних 75-мм снарядов и остался почти невредимым.
Блок №1 Шоненбурга после обстрела (источник фото)
Удалось прорвать линию у Рейна, где укрепления были не столь сильны. В ходе дальнейших боёв немцы захватили несколько фортов — в основном за счёт ударов с тыла. При этом до перемирия пали только малые форты, так называемые petit ouvrage. Крупные крепости, grand ouvrage, так и не дались немцам.
Решение нашли не наверху, в штабах, а на поле боя
Чтобы наблюдать за врагами, в сооружениях линии Мажино ставили специальные бронеколпаки. За характерную форму французы называли их «колоколами» (cloche).
Отливали «колокольчики» из броневой стали, с толщиной стенок около 300 мм.
Броня на зависть любому танку Второй мировой.
Некоторые колпаки вооружались пулемётами и вполне могли счистить штурмовую группу со «спины» дота.
Индюки в верхах не дали немецкой пехоте в руки эффективных тяжёлых орудий. Но штурмующие части получали зенитки калибра 88 мм («ахт-комма-ахт», как их называли немцы. — Прим. ред.). Броню в 300 мм они формально не пробивали. Но солдаты подумали: «А если выстрелить много раз в одну точку? Цель неподвижная, снарядов завались, затвор полуавтомат — знай закидывай…».
Эффект оказался поразительным. С дистанции в километр зенитки всаживали в колпаки снаряд за снарядом — и таки проламывали броню. Дот становился слепым. Его уже можно было уверенно «тыкать в ухо шомполом» силами штурмовой группы.
Ещё бодрее пошло дело у немецких зенитчиков в расстреле укреплений на берегу Рейна, в южном секторе линии Мажино. Методом «капля долбит камень не силой, но частотой падения», «ахт-комма-ахт» пробивали не только бронеколпаки, но и пару метров бетона, оставляя только хитросплетения арматуры. Неудивительно, что зенитки тащили через Рейн сразу за пехотой: выносить следующую линию бетонных коробок.
Брест на Рейне
Впрочем, дело решали не успех или неудача войск Линии, а развал обороны на севере, что привело к окружению большой французской группировки между рекой Эной и границей Франции. Среди них были и все укрепления линии Мажино.
После этого катастрофа стала неизбежной. Тем не менее, войска укреплений отказывались сдаваться весьма долго, даже после официального заключения перемирия. Последние форты пали только в начале июля. При этом командиров пришлось уговаривать сдаться французскому же руководству, которое осталось верным режиму Виши.
Линия Маннергейма или линия Энкеля?
Имя Маннергейма, финского главнокомандующего, а затем и Президента Финляндии, линия оборонительных сооружений на карельском перешейке получила лишь в конце 1939 года, когда группа иностранных журналистов побывала на ее строительстве. Журналисты вернулись домой и написали серию репортажей об увиденном, в которых и упомянули ставший затем официальным термин.
Вид на линию Маннергейма с высоты птичьего полета. Источник фото: intpicture.com
В самой же Финляндии этот оборонный комплекс долгое время называли «линией Энкеля» в честь начальника Генерального штаба молодой республики, уделившего в начале 20-х годов 20 века большое внимание строительству оборонительных сооружений на южных рубежах свой Родины. Возведение линии началось в 1920 году и было приостановлено в 1924, когда Энкель ушел в отставку со своего поста.
Карл Густав Маннергейм — командующий армией Финляндии. Источник фото: kommari.livejournal.com
Возобновилось оно лишь в 1932 году, когда легендарный военачальник Карл Густав Маннергейм, ставший за год до этого главой Государственного комитета обороны, проехался с инспекцией по «линии Энкеля» и отдал распоряжение достроить ее, укрепить и модернизировать.
Итальянцы… как всегда
Малоизвестный эпизод кампании 1940 года — это вступление в войну Италии и её попытки прорвать Альпийскую линию. Несмотря на подавляющее превосходство в силах, выступление армии Муссолини закончилось полным провалом. И здесь укрепления тоже показали себя положительно.
Итальянцы пытались штурмовать их с применением бронетехники, но… у них были только танкетки.
Двенадцать танкеток они сразу потеряли — их тут же занесло снегом.
Итальянцы пытались обстреливать форты, но если уж немцам не удавалось достичь успеха, то бедным потомкам римлян — тем более. В ход пошли даже бронепоезда, но тоже без всякого успеха.
Гаубицы линии Мажино
В итоге итальянской пехоте удалось добраться до сооружений одного из grand ouvrage, но сделать с ним хоть что-то не получилось. Успехи итальянцев во всей войне свелись к занятию города Ментона. Впрочем, этот курортный городишко население покинуло ещё до начала сражений.
Что такое «карельский скульптор»?
Советско-финская война 1939-1940 годов подарила миру несколько новых терминов. К примеру, «коктейль Молотова» и «карельский скульптор». Последним называли советскую гаубицу большой мощности калибра Б-4, снаряд которой после попадания в доты и дзоты превращал эти сооружения в бесформенную мешанину бетона и арматуры. Эти причудливых форм конструкции были видны издалека, благодаря чему получили прозвище «карельские монументы». Финны же называли гаубицу Б-4 «сталинской кувалдой».
Гаубица Б-4 — карельский скульптур или сталинская кувалда. Источник фото: https://topwar.ru
Выводы
Линия Мажино выполнила практически все свои задачи. Она была действительно разумным решением для начала 30-х годов. Проблема оказалась не в Линии, а во французской армии в целом. Не сумев создать современные, на должном уровне управляемые и организованные вооружённые силы, Франция обрекла себя если не на поражение в войне, то на череду тягостных неудач на начальном этапе.
Линия Мажино позволила сузить окно возможностей для немцев, но французы не сумели верно оценить замысел кампании. Опять же, дело не в Линии, а в непонимании способностей современной армии. Солдаты и офицеры фортов могли только храбро и умело сражаться — что они и делали. Но судьба всей кампании, увы, решалась не на их фронте.
Примечания[править]
- В годы Второй мировой «линиями» также называли рубежи с обычными полевыми укреплениями, пусть даже усиленные бетонными сооружениями. Разница примерно как между домом «нового русского» и избушкой лесника: если довоенные линии специально проектировались для прикрытия участков границы и включали в себя сооружения на грани платёжеспособности страны (доты-миллионники), то линии времен войны усиливались ДОТами по мере возможности, чаще всего из сборного железобетона, и на тех позициях, которые были.
- Черные кружки со стрелками (например, 416, 417) — ДОТ-ы фронтально-косоприцельного огня, каждая стрелка — сектор обстрела.
Маленькие черные кружки с одной стрелкой (420) — малые ДОТ-ы
- Квадрат со стрелками вверх-вниз (410) — капонир
- Треугольник, вписанный в круг (407) — артиллерийский наблюдательный пункт
- Небольшие квадратики с тройными стрелками (405, 406) — орудийные площадки ТАУТ.
- В боях под Ленинградом было как минимум два места, где нами же вырытый ров стал крепкой немецкой позицией: Невский пятачок и район Красного Бора.
- Такие блокгаузы по большей части постоянных гарнизонов не имели, в случае войны их должна была занимать обычная пехота.
- Учитывая боевые качества итальянской армии в ту войну — честь всё же невеликая. Эти бы и на траншеях запнулись.
- Противотанковые рвы ДОЛЖНЫ продольно простреливаться артиллерией — иначе они бесполезны.