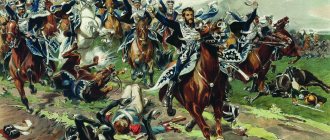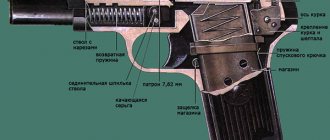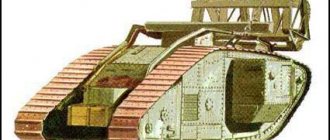Главная » Автомобили » Русские броневики Первой мировой
АвтомобилиКниги по истории танков
boroda 26.04.2019 1531
12
в Избранноев Избранномиз Избранного 7
Еще в 1905 году в области колесных бронемашин, броневиков или так называемых блиндированных автомобилей Царская Россия могла бы выйти в мировые лидеры, но ей опять помешали «специфические условия». От благостной спячки русское Военное ведомство очнулось лишь с первыми залпами Великой войны (Первой мировой), широко открывшей ворота многочисленным иностранным броневикам для разведки и боевых действий.
Бронемашина для первой автомобильной пулеметной роты с корпусом Ижорского завода. 1915 год
Содержание:
- Первый русский бронеавтомобиль Накашидзе
- Русские броневики на отечественных шасси
- Русские бронеавтомобили на иностранных шасси
- Трехколесные бронемашины Филатова
- Бронеавтомобили Былинского
- Бронемашина Улятовского
- Бронеавтомобили Мгеброва
- Ижорский ФИАТ
- Бронемашины Поплавко
- Бронемашины «Гарфорд»
- Полугусеничная бронемашина Гулькевича
- Иностранные бронемашины в Царской армии
- Первые бронеавтомобили Austin
- Бронемашины Armstrong-Whitworth
Почти все они базировались на шасси обычных легковушек и не всегда соответствовали своему предназначению, поэтому в Русской императорской армии спонтанно сложилась разветвленная «индустрия исправления чужих ошибок» — доработка импортных и создание собственных бронированных корпусов. Их собирали петербургские Путиловский завод и Обуховский сталелитейный, бронепрокатная мастерская № 2 Ижорского завода в Колпино, а также офицерские учебные заведения, фронтовые мастерские и небольшие частные предприятия.
До октября 1917 года в царскую армию из-за границы поступили 496 броневиков, из которых около 200 машин были переделаны в России. Большинство бронеавтомобилей, носивших собственные броские имена, участвовали в боях Первой мировой и Гражданской войн, а также в событиях Февральской и Октябрьской революций.
Русские броневики (Часть 1) Первые шаги
Традиционно считается, что первый бронеавтомобиль для Русской Армии спроектировал подъесаул 7-го Сибирского казачьего полка князь Михаил Александрович Накашидзе еще во время русско-японской войны. Якобы машина, изготовленная во Франции, предназначалась для действий в условиях Дальнего Востока, но из-за отсталости России и косности царских чиновников броневик «зарубили». Попробуем разобраться, как же все-таки обстояло дело. Князь М. Накашидзе действительно был большим любителем и популяризатором автомобильной техники. В 1902 году он опубликовал в Петербурге книгу «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России», которая являлась первой в стране книгой по военному автомобилизму.
Служа в Варшаве, М. Накашидзе совместно с графом Потоцким и полковником Головиным основал автотранспортное предприятие под названием «Большой международный гараж автомобилей», которое открылось в июле 1903 года. Помимо продажи машин французской здесь были изготовлены несколько автомобилей собственной разработки, получившие название «Интернациональ».
Видимо в это время Накашидзе начинает сотрудничать с французской (Chraron, Giarardot, Voigt»), основанной в 1901 году. Пока не удалось установить, как выстраивались взаимоотношения русского князя и французов, но, по некоторым данным, Накашидзе являлся одним из совладельцев этого предприятия. Во всяком случае, уже в начале 1904 года он продал «Большой международный гараж автомобилей», а в переписке с представителями Генерального Штаба Русской Армии он представлялся как директор отдела броневых автомобилей .
В 1902 году «Шаррон, Жирардо, Вуа» представила на парижской выставке автомобиль с установленным на нем 8-мм пулеметом Гочкиса и частичным бронированием. В следующем году эта машина испытывалась во время маневров французской кавалерии в Шалонском военном лагере, но дальнейшего.развития не получила.
В 1905 году отставной французский полковник-артиллерист Гюйе, работавший на , спроектировал полностью бронированный автомобиль с пулеметной башней, причем на механизм поворота башни оригинальной конструкции 13 февраля 1906 года он получил патент № 363712. В начале этого же года изготовила два таких бронеавтомобиля.
С началом русско-японской войны М. Накашидзе возглавляет сформированную им из добровольцев команду разведчиков, с которой отправляется на фронт в распоряжение 7-го Сибирского казачьего полка. В начале июля 1905 года он направил главнокомандующему русскими войсками на Дальнем Востоке генерал-адъютанту Леневичу предложение о заказе во Франции одного бронированного автомобиля, вооруженного пулеметом, для испытаний его во фронтовых условиях. Скорее всего, Накашидзе уже знал о проекте броневого автомобиля полковника Гюйе и рассчитывал на то, что русское правительство заинтересуется новинкой. Он брал на себя роль посредника при оформлении сделки, а также финансирование доставки броневика в Россию.
Генерал-адъютант Н.П. Леневич согласился с предложением Накашидзе. Кроме того, последний получил от министерства финансов Российской Империи разрешение на беспошлинный ввоз броневика в Россию: предполагалось, что налоги заплатит государство в случае приобретения машины. В случае если бы сделка не состоялась, броневик предполагалось отправить во Францию в 3-месячный срок.
Видимо, заручившийся поддержкой «наверху» Накашидзе, что называется «вошел во вкус», так как начальник управления военных сообщений Генерального Штаба сообщал генерал-квартирмейстру Главного Штаба русской армии:
«Подъесаул князь Накашидзе докладной запиской от 3 декабря с. г. просил о безотлагательном пропуске через таможню еще пяти таких же бронированных автомобилей, но в этой просьбе ему было отказано 8 декабря, так как предположено приобрести лишь один мотор на предмет испытания его военным ведомством».
Бронированный автомобиль прибыл в Петербург 8 марта 1906 года. Машину направили на Санкт-Петербургский артиллерийский склад, который размещался в кронверке Петропавловской крепости (ныне там Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. — Прим. автора).
Бронеавтомобиль «Шаррон» на дороге. Россия, 1906 год (РГВИА)
Испытания новинки поручили специально созданной для этого комиссии Главного артиллерийского управления под председательством генерал-лейтенанта Тахта-рева. В период с 22 марта по 29 мая 1906 года бронеавтомобиль совершил несколько пробегов в окрестностях Петербурга. Также были проведены испытания стрельбой и отстрел брони на Ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы.
30 июня 1906 года был составлен «Журнал комиссии при ГАУ для испытания бронированного автомобиля, снабженного пулеметом», в котором обобщили все материалы по испытанию машины:
«Автомобиль, по заявлению Накашидзе, обладает мощностью 30 л.с, запас бензина на 500 км, расход бензина составляет 1,25 фунта насилу в час, т.е. 37,5 фунтов в час, вес всего автомобиля 180 пудов (2400 кг), число людей 4 (офицер, управляющий автомобилем шофер и 2 пулеметчика). Со всех сторон он прикрыт броней в 4,5 мм, спереди броня сделана откидная на петлях и может, по желанию, подниматься или опускаться вниз, сбоку прорезаны 4 окна (по 2 с каждой стороны), закрывающиеся стальными листами 4,5 мм толщины. Таким образом, в боевом виде автомобиль почти совершенно прикрыт броней, остаются лишь маленькие отверстия для глаз.
Неприкрытыми остаются колеса с их дутыми шинами, которые броней не защищены. Для освещения внутри имеются маленькие лампочки накаливания. Спереди расположены сиденья для офицера и шофера, около которых сосредоточены все механизмы и рычаги для управления, задняя же часть предназначена для пулемета, укрепленного во вращающейся башне, лежащей над крышей автомобиля.
Башня эта может передвигаться вокруг особой вертикальной оси, к которой прикреплен пулемет двумя изогнутыми рычагами…
В помещении для пулемета находится сиденье для пулеметчиков, которое во время стрельбы убирается. Кроме того, здесь же помещаются два вертикальных резервуара — один для перевозки 140 л бензина, другой 20 л масла. Остальное количество бензина перевозится в резервуаре под передними сиденьями. Самая задняя часть автомобиля предназначена для перевозки 2400 патронов, уложенных в 10 металлических ящиков по 10 пачек по 24 патрона в каждой. Для остальных патронов особого помещения не имеется, но еще некоторая часть может перевозиться прямо на полу автомобиля около стойки для пулемета.
С наружной стороны спереди автомобиль оснащен ацетиленовым фонарем, сбоку снаружи к нему привешены два переносных мостика для переезда через рвы, а сзади запасное колесо и запасной пулемет.
Автомобиль вооружен пулеметом Гочкиса, стреляющим французскими патронами».
Не слишком впечатляющими были результаты испытаний брони обстрелом из 7,62-мм винтовки Мосина, показавшие, что «броня, поставленная на автомобиль, по своим качествам относительно непробиваемости значительно уступает нашей стали, причем хрупкость ее подтверждает и то обстоятельство, что при пробивании ее попадающими пулями около пробоин откалывались маленькие кусочки брони».
В своих выводах по испытанию броневого автомобиля комиссия главного артиллерийского управления отмечала следующее:
«1. Машина дала вполне хорошие результаты: а) по очень хорошей дороге автомобиль двигался со скоростью 60 верст в час;
б) подъемы до 18-20 град, автомобиль брал хорошо;
в) по песчаному уплотненному неглубокому грунту и по сухой пашне автомобиль двигался беспрепятственно.
2. Имея достаточный запас воды и бензина, автомобиль долго движется без их пополнения.
3. Управление автомобилем удобно ввиду того, что все рычаги и механизмы сосредоточены около шофера.
4. Необходимо отметить и целесообразное устройство охладителя машины.
Недостатки:
5. Автомобиль совершенно не может двигаться по размокшей сырой не мошеной дороге (с обыкновенным грунтом окрестностей Петербурга), по пути укрытому даже неглубоким рыхлым снегом, а также без дорог, по сухим мягким фунтам, по которым обычный легкий пассажирский 8-местный автомобиль может проходить. При движении по таким грунтам автомобиль увязал почти до осей.
6. Поворотливость автомобиля незначительна. Для поворота необходим круг в 17,5 аршин диаметром и 9,5 аршин для поворота последовательным движением вперед — назад.
7. Нет полной независимости ходов.
8. Некоторые части автомобиля, например выхлопная труба, расположены очень низко, ввиду чего в случае увязания колес возможны их поломки.
9. Центр тяжести автомобиля поднят очень высоко ввиду довольно значительного веса броневой башни и пулемета, расположенных сверху крыши автомобиля, что вредно влияет на его устойчивость».
Не все обстояло гладко и при испытании машины стрельбой. Если при ведении огня с места результаты были вполне удовлетворительные, то оказалось, что в движении «меткость значительно понижается, причем с увеличением скорости понижение растет».
Кроме того, отмечалась, что боевое отделение мало для размещения пулемета и двух пулеметчиков, вращение башни и наведение ее на цель довольно сложно, а «стрельба требует особой ловкости и сноровки вследствие тесноты помещения». Также члены комиссии высказались против использования на броневике пулемета Гочкиса: «Стреляет французскими патронами, следовательно для нашей армии непригоден».
Вид бронеавтомобиля «Шаррон» с башней, развернутой назад. Россия, 1906 год (РГВИА)
В окончательных выводах комиссия записала:
«Доставленный автомобиль не удовлетворяет некоторым условиям поставки, а потому и не может быть допущен к приему».
Присутствовавший на испытаниях князь Накашидзе, видимо поняв, что представленный им броневик не удовлетворяет требованиям военных, 18 июня 1906 года направил на имя начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта Ф. Палицина докладную записку следующего содержания (кстати, в этом документе Накашидзе именовался «директором отдела броневых автомобилей ):
«Построенный мною автомобиль был приспособлен к условиям войны на Дальнем Востоке. Нынешнее политическое положение на этой окраине вовсе не дает оснований предполагать, что мы не накануне новых оснований с нашим врагом. Японское военное министерство уже два раза обращалось на наш завод с просьбой поставить ему 50 автомобилей, а комиссия китайских офицеров, приезжавшая для осмотра автомобиля, сделала нам заказ на 150 автомобилей для китайского правительства. Будучи связан со мной контрактом, завод был вынужден временно отказаться от этих заказов, но если до 1 сентября с. г. я не представлю заводу от Русского Правительства заказа известного количества автомобилей, не менее 50, то завод будет вправе поставлять бронеавтомобили кому угодно…
Из всего сказанного вытекает, насколько было бы важно в целях Государственной обороны и придания нашим военным силам большей мощи, если бы Русская Армия оснастилась теперь же достаточным количеством броневых автомобилей, которые, будучи сосредоточены в парках, дали бы возможность заблаговременно подготовить контингент механиков и изучить боевую тактику этого нового вида оружия.
В заключение считаю долгом добавить что, идя навстречу Правительству в виду его тяжелого денежного положения, мы готовы были бы открыть в Петербурге крупный автомобильный завод».
Скорее всего, сведениями о предполагаемых закупках бронемашин различными странами Накашидзе пытался надавить на русское военное министерство и вынудить его к покупке партии бронемашин у него. Причем предприимчивый князь уже пытался воздействовать таким образом ранее. Например, представляя прибывший в марте 1906 года бронеавтомобиль представителям управления военных сообщений, Накашидзе сообщил, что по имеющимся у него «секретным данным германское Военное Министерство заключило условие с одной из крупных немецких фирм о поставке по первому требованию 80 автомобилей в двухмесячный срок и что подобный же контакт заключен французским Военным Министром с одной из французских фирм о поставке в течение трех месяцев 100 автомобилей приблизительно того же типа, как и изготовленный .
Бронеавтомобиль «Шаррон», застрявший на песчаном грунте. Россия, 1906 год (РГВИА)
Распоряжением начальника Генерального Штаба от 21 июля 1906 года бронированный автомобиль было «приказано передать в распоряжение штаба Красносельского военного лагерного сбора на время с 24 июля с. г.». Для проведения испытаний приказом командующего войск гвардии и Петербургского военного округа была создана специальная комиссия под председательством генерал-майора Розеншильд фон Паули. Вряд ли поводом для проведения испытаний послужили сомнительные сведения Накашидзе о заказах на броневики других стран. Скорее всего, командование Русской Армии хотело получить полные сведения о бронированной новинке, так как в приказании комиссии указывалось, что «испытания следует проводить исключительно с тактической целью». В своем заключении комиссия генерал-майора Розеншильд фон Паули отмечала следующее:
«…При испытании с 25 июля по 5 августа с. г. на практике выяснилось, что автомобиль весьма пригоден для выполнения следующих задач: а) для широкой разведки в тылу и на флангах противника;
б) для прорыва с разведывательной целью сквозь цепь противника;
в) для службы связи в сфере огня противника, особенно при значительном развитии сети путей;
г) для расстройства кавалерийских частей, идущих в атаку…
д) как удобная вышка для производства наблюдений на ровной местности, особенно если имеются и кусты, за которыми можно скрыть автомобиль.
Кроме указанных выше назначений автомобиль, можно полагать, принесет пользу в следующих случаях:
а) для быстрого продвижения к фронту противника или в тыл ему с целью уничтожения при помощи перевозимого запаса взрывчатки каких-либо важных сооружений, особенно переправ;
б) для различных вспомогательных целей при партизанских действиях;
в) для быстрой доставки в боевые линии патронов и снарядов, а равно пополнение убыли офицеров;
г) при преследовании противника постоянное беспокойство со всех сторон пулеметным огнем.
Хотя комиссии поручено было высказаться о тактическом значении броневого автомобиля, тем не менее, нельзя обойти молчанием и некоторых технических сторон, существенно влияющих на тактическое применение автомобиля. В этом смысле нельзя не отметить:
1) Бронеавтомобиль Накашидзе вследствие своей громоздкости (180 пудов) получит широкое применение лишь в сфере густой сети шоссе.
2) Автомобиль слишком грузен, почему легко застревает в грязи.
3) Малоповоротлив на дорогах, благодаря чему уходит много времени на повороты, что под огнем противника может быть гибельно.
4) Передок слишком низко сидит над землей, вследствие чего бывают задержки от попадания камней и т.д.
5) По своему наружному очертанию автомобиль представляет слишком большое сопротивление для воздуха и мало поверхностей, по которым скользили бы пули.
6) Шины колес следует по возможности прикрыть броней.
7) Для наблюдения по сторонам вместо имеющихся больших отверстий сделать узкие щели.
 Все приспособления для пулемета следует облегчить и пулемет сделать съемным, а способ его крепления более удобным для стрелка.
Все приспособления для пулемета следует облегчить и пулемет сделать съемным, а способ его крепления более удобным для стрелка.
9) Для быстрого вскакивания в автомобиль его следует снабдить большим числом дверей.
10) По возможности уменьшить шум от движения, чтобы дать возможность незаметнее подходить к неприятелю».
Таким образом, общие выводы обеих комиссий, проводивших испытания машины в марте — мае и июле — августе в целом совпадали. Их оценка бронеавтомобиля в целом сводилась к одному — в данном виде он не пригоден для эксплуатации и применения в Русской Армии.
Однако такой поворот дела никак не устраивал Накашидзе, который был напрямую финансово заинтересован в том, чтобы Россия приобрела партию бронеавтомобилей «Шаррон». Видимо, находясь под впечатлением боев революции 1905-1906 годов, он предлагает использовать машину «для поддержания внутреннего порядка». Записавшись на прием к тогдашнему министру внутренних дел П. Столыпину, Накашидзе приехал на его дачу 12 августа 1906 года. Именно в этот день на министра было совершено покушение, и его дача взлетела на воздух. Сам Столыпин не пострадал — во время взрыва он отсутствовал. Однако, как следует из записки товарища министра внутренних дел,
«12 августа 1906 года был убит среди других, явившийся к Министру с предложением для полицейских и охранных целей изобретенного им типа автомобиля штаб-ротмистр князь Михаил Александрович Накашидзе, и вместе с ним погибли все чертежи, планы, договоры с французской автомобильной компанией и прочие документы, относящиеся к его изобретению».
Но, несмотря на столь трагическую судьбу самого Накашидзе, предлагаемый им бронеавтомобиль продолжал свою «одиссею» в России. Курировал машину товарищ погибшего князя отставной полковник гвардии А. Офро-симов, который также являлся представителем .
22 сентября 1906 года в Военный совет было направлено письмо следующего содержания:
«По мнению Главного Управления Генерального штаба бронированный автомобиль князя Накашидзе, хотя и оказался не удовлетворяющим некоторым из предъявленных к нему условий, тем не менее по результатам испытаний на Красносельских маневрах мог бы быть пригоден для выполнения известных боевых задач, а потому таковой желательно приобрести в Военное Ведомство для развития дальнейших испытаний с ним и с целью усовершенствования его технических данных».
Видимо, на основании этого документа 9 января 1907 года бронированный автомобиль приобрело военное ведомство России, заплатив французской фирме 30000 рублей.
Кстати, одним из условий приобретения броневого автомобиля Генеральный Штаб поставил сдачу машины «во вполне исправном виде» с заменой броневого корпуса и башни. Надо отдать должное оперативности отставного полковника Офросимова — 19 февраля 1907 года он заключил с Путиловским заводом в Петербурге договор на ремонт броневика. При этом были проведены следующие работы:
«1. Установка новой брони, доставленной из Франции; 2. Исправление щитов колес;
3. Сделать все приспособления пулемета съемным;
4. Для наблюдения по сторонам в имеющихся ставнях оконных сделать бойницы в виде продолговатых щелей;
5. Сделать в задней стене бойницу;
6. Возобновление наружной окраски».
28 марта 1907 года комиссия из представителей управления военных сообщений, главного артиллерийского управления и представителя Офросимова приняла бронеавтомобиль, отремонтированный Путиловским заводом. После небольшого испытательного пробега машину направили на хранение в кронверк Петропавловской крепости.
В начале августа 1907 года броневик вновь отправили в Ораниенбаум, для проведения испытаний на ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы. Руководил испытаниями начальник полигона полковник Н. Филатов, а шофером машины был солдат 1-го Кавказского железнодорожного батальона Павел Васильев.
Испытания с перерывами длились до середины октября, причем проверялась как скоростные и маневренные качества машины, так и возможность установки на ней и ведения огня из пулеметов Гочкиса, Максима и Мадсена. Во время нахождения на полигоне бронеавтомобиль прошел более 600 верст, показав высокие скорости движения по хорошим шоссе и полное отсутствие проходимости по грязным дорогам или проселкам. Кроме того, отмечалось большое число поломок, для исправления которых приходилось приобретать запчасти на заводе Лесснера. В целом, выводы по маневренности и проходимости машины полностью совпадали с выводами комиссий, проводивших испытания в 1906 году.
Бронеавтомобиль «Шаррон» во время испытаний пробегом на пути в Ораниенбаум. Россия, 1906 год (РГВИА)
В июле 1908 года бронеавтомобиль поступил в распоряжение войск гвардии и Петербургского военного округа и его отправили в Красное Село «для испытания ездою на маневрах». Однако результаты оказались неутешительными: «Броневой автомобиль в его настоящем виде, вследствие чрезмерной тяжести, для вышеуказанных целей служить не может». При этом штаб Петербургского военного округа предлагал переделать автомобиль «на более легкий тип» (т.е. разбронировать), взяв все расходы за свой счет.
17 сентября 1908 года броневой автомобиль передали в «полную собственность» Петербургского округа, а к 16 октября броня с машины была снята, а сам автомобиль переделан в легковой.
Таким образом, несмотря на более чем двухлетние испытания броневика в России эта машина не получила признания у наших военных, и в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что до этого ничего подобного на вооружении ни одной страны мира не имелось, и опыта в использовании нового вида боевой техники, естественно, ни у кого в то время не было. Кроме того, не следует забывать, что технический уровень броневиков того времени был напрямую связан с развитием автомобилестроения. А в первые годы XX века автомобили представляли собой еще весьма несовершенные конструкции, имевшие малую надежность работы агрегатов и низкую проходимость, а также бывшие весьма сложными и капризными в эксплуатации.
помимо броневика для России изготовила еще несколько подобных машин в расчете на русский заказ. По французским источникам, шесть построенных броневиков отправили в Россию в конце 1906 или начале 1907 года, но через границу их не пустили. Чуть позже две машины были куплены немцами, причем с солидной скидкой (по некоторым данным до 40%). После испытаний в 1909 году машины участвовали на учениях 5-й гвардейской бригады, а затем их отправили в одну из крепостей в Восточной Пруссии. По некоторым данным, оба броневика использовались немцами в боях в Восточной Пруссии в августе 1914 года.
Один броневик был куплен у французскими военными, и в 1914 году использовался в боях в составе кавалерийского корпуса генерала Сордэ.
Помимо броневого автомобиля князя Накашидзе, перед Первой мировой войной в России имелся еще один броневик, о котором в нашей стране практически ничего не известно. Правда, заказывали машину не военные, а гражданские власти.
11 ноября 1911 года управление по постройке восточной части Амурской железной дороги заключило с немецкой договор на изготовление броневого автомобиля, который должен был удовлетворять следующим требованиям:
«Общий вес автомобиля около 120 пудов, вес брони толщиною 4,5 мм из крупповской стали не должен превышать 30 пудов. Подъемная сила — 60 пудов груза или 6 человек и 20 пудов.
Шасси грузового типа. Мотор должен быть 4-цилиндровым, в 35/40 л.с, с отлитыми попарно цилиндрами…
Максимальная скорость при полной нагрузке 20 верст в час.
6. Автомобиль должен быть снабжен боевой вращающейся башней, непроницаемость брони гарантируется против винтовочных выстрелов».
Судя по всему, перед выдачей заказа представила управлению по постройке восточной части Амурской железной дороги эскизный проект машины, который, с небольшими изменениями, и был утвержден.
Бронеавтомобиль «Бенц» Амурской железной дороге в Омске. Май 1918 года (музей современной истории России)
4 августа 1912 года броневик доставили в Петербург, в российское отделение торгового дома «Бенц и К°», после чего машину отправили в Хабаровск. Судя по документам, внешний вид и характеристики машины соответствовали заданию, однако немецкая фирма не полностью выполнила поставленные условия. Так, броневик не имел «боевой вращающейся башни», а грузошины были меньшего диаметра, за что с исполнителя удержали 1203 рубля (общая стоимость машины составляла 11500 рублей).
Интерес к бронеавтомобилю управлением по постройке восточной части Амурской железной дороги не случаен. Дело в том, что в ходе русско-японской войны выяснилось, что Китайско-Восточная железная дорога, проложенная по территории Маньчжурии, полностью не обеспечивает интересов России. Поэтому уже в 1906 году началось проектирование Амурской железной дороги от Сретенска до Хабаровска обшей протяженностью 2041 версты с ветками к Нерчинску, Рейно-ву и Благовещенску. Строительство началось два года спустя, и велось в малонаселенных районах вблизи с китайской границей. Поэтому нередки были случаи нападения на рабочие партии китайских бандитов — хунхузов. Для безопасных поездок инженеров, а также перевозки ценных грузов, по предложению начальника работ по постройке восточной части Амурской железной дороги инженера А. В. Ливеровского и был заказан бронеавтомобиль «Бенц».
Прибывший в Хабаровск 15 сентября 1912 года броневой автомобиль в начале следующего года переделали для движения по железнодорожному полотну, так как шоссе и хороших грунтовых дорог в этом районе имелось крайне мало, а зимой движение по ним было практически невозможно.
После начала Первой мировой войны бронеавтомобиль «Бенц» был принят «в Военное ведомство по военно-автомобильной повинности» по акту № 16495 от 5 октября 1914 года. Как следовало из сопроводительных документов, к этому времени автомобиль «в период времени службы на постройке в течение 25 месяцев сделал пробег всего лишь 2425 верст». Кстати, в тех же документах эта машина именовалась «бронированным автобусом» — видимо из-за больших габаритных размеров.
В середине октября 1914 года «бронеавтобус» из Хабаровска направили в Петроград, в распоряжение Военной автомобильной школы, но машина затерялась на необозримых русских просторах, так и не доехав до столицы.
Весной 1918 года машина «всплывает» в Омске. Здесь, за характерную форму корпуса броневик прозвали «гроб Лобкова» (3. И. Лобков — один из организаторов отрядов Красной гвардии в Омске, председатель городского комитета РСДРП (б)).
Таким образом, к началу Первой мировой войны на вооружении Русской Армии броневых автомобилей не имелось. Впрочем, и в других странах, имевших более развитую (по сравнению с Россией) автомобильную промышленность — Австро-Венгрии, Германии, Англии, Америке и Франции — дело обстояло точно также. Построенные этими странами в 1906—1913 годах различные образцы броневых автомобилей не пошли дальше опытных образцов и ни один из них не заинтересовал военных.
Первый русский бронеавтомобиль Накашидзе
Во время Русско-японской войны отставной поручик гусарского полка грузинский князь Михаил Александрович Накашидзе уверился в необходимости создания принципиального нового вида вооружения — бронеавтомобиля. Представленный летом 1905 года проект военным понравился, но они ограничились советом изобретателю принять на себя все расходы по его изготовлению.
Прототип бронеавтомобиля Накашидзе французской фирмы CGV. 1905 год
В результате заказ на два броневика был передан французской фирме Charron, Girardot et Voigt (CGV), которая уже имела опыт установки пулеметов на легкие шасси. Основой русских бронемашин являлись рядовые 37-сильные легковушки Charron 30CV с отнесенной назад коробкой передач и главной цепной передачей. На них водрузили высокие бронекорпуса с крупными окнами и поворотной башней с пулеметом Hotchkiss, а по бортам крепились колейные мостки для преодоления траншей. Достаточно тяжелая трехтонная машина развивала скорость 50 км/ч и имела запас хода 600 километров. Ее первые испытания состоялись в конце 1905 года во Франции.
Пулеметная машина Михаила Накашидзе на испытаниях в России. 1906 год
Второй экземпляр броневика на военных маневрах во Франции. Июль 1906 года
Так в который уж раз сработала теория особого исторического статуса России с ее «специфическими условиями», к которым относили многовековую привязанность к конным повозкам, отсутствие крупных промышленных предприятий и…
126000111.02.2018
В Россию первый бронеавтомобиль прибыл в марте 1906-го. Военные провели его испытания в весеннюю распутицу и признали машину «неспособной к самостоятельному движению», но по итогам летних проб ее рекомендовали применять
«для борьбы с конницей противника и преследования отступающего врага».
После ремонта и усиления брони она снова поступила на испытания, но по их результатам в 1908-м броневик был разобран.
M1 / T4, Бронеавтомобиль
На долгом пути эволюции, пройденном гражданской и военной автомобильной техникой, периодически появлялись образцы, имевшие кардинальные отличия от всех изделий, которые проектировались и серийно производились до этого. И каждый раз именно с них начинался новый виток совершенствования конструкций, вновь инициировавший через некоторое время очередной качественный скачок.
Возьмем, к примеру, бронеавтомобили. Сейчас почти все машины имеют несущий корпус из броневой стали, к которому крепятся агрегаты ходовой части и силовой передачи. Некоторые типы изготовлены по старой, классической, схеме – на рамном шасси. Но это в основном модифицированные грузовые и легковые автомобили, превращенные в броневики полицейского назначения, а не полноценные машины поля боя.
Самым первым в истории бронеавтомобилем с “самонесущим” броневым кузовом стал американский Т4, построенный в 1932 г. фирмой “Каннингхэм” и позднее принятый на вооружение подиндексом М1.
Фирма “Каннингхэм” была, как иногда выражаются, широко известна в узком кругу. Основанная еще в первой половине XIX в. она в начале XX столетия освоила мелкосерийное производство легковых автомобилей высокого класса. В 1916 г. на заводе фирмы в г. Рочестер (штат Нью-Йорк) был запущен в серию двигатель V-8 рабочим объемом 7244 см3 и мощностью 90 л.с. (2000 об/мин). Этот мотор впоследствии использовался на всех “каннингхэмах”, вплоть до ликвидации на фирме автомобильного направления в начале 30-х гг. Имея объем выпуска три – четыре сотни автомобилей в год, “Каннингхэм” серийно строила бронированные лимузины, санитарные машины и катафалки. Так, из 377 “каннингхэмов”, проданных в 1923 г., 190 штук являлись “автомобилями специального назначения”, а среди 310, выпущенных заводом в 1928 г., их было уже 70 процентов.
Именно несовременная “штучная” технология производства позволила маленькой фирме решительно отбросить применявшиеся до этого (да и после) принципы создания армейских бронеавтомобилей на коммерческих шасси. Крупные производители никогда не пошли бы на такое в мирное время. А Джеймсу Каннингхэму и его сотрудникам было все едино: что конвейер переналаживать, что дорогое оборудование закупать. Отгородили часть цеха, построили что-то вроде стапеля и приступили к монтажу.
Что же представлял собой первый в мире бронеавтомобиль нового поколения? Несущий кузов с огромными плоскими поверхностями был смешанной клепано-сварной конструкции. Для его изготовления использовались листы брони толщиной от 4,8 до 12,7мм. Почти половину длины бронекузова занимал огромный моторный отсек, хотя двигатель V-8, который там размещался, имел довольно скромные габариты. Для охлаждения радиатора спереди были устроены вертикальные жалюзи. За отсеком двигателя – бронированная двухместная кабина с двумя весьма широкими дверями.
В первых опытных образцах “Каннингхэма” военные сразу отметили недостаточную броневую защиту лобового остекления (двумя – левым и правым – откидными бронещитками). Вообще, конструкция была явно неудачной, ведь для того, чтобы опустить бронещитки, ветровое стекло надо было откинуть и положить на капот. В боевых условиях оно вряд ли уцелело бы. За кабиной – боевое отделение с невысокой вращающейся башней цилиндрической формы с конической крышей. В башне были предусмотрены места для установки двух пулеметов “Браунинг”. Тяжелый М1920 калибром 12,7 мм и обычный “ручник” М1919 калибром 7,62 мм размещались очень близко друг относительно друга. Башня снабжалась откидывающимся назад люком. На ее крыше находился узел для крепления антенны радиостанции. Боевое отделение имело две боковые и одну заднюю дверцы.
Расстояние от первого моста до второго – 2572 мм, от второго до третьего – 1136 мм. При такой достаточно солидной базе размеры бронеавтомобиля, получившего индекс Т4, были 4830 х 1850 х 2130 мм, а вес – 4,08 т. Учитывая, что мощность двигателя V-8 рабочим объемом 7,7 л достигала 140 л.с. (у серийной модели), легко рассчитать удельную мощность: 35 л.с. на тонну веса. Для сравнения, выпускавшийся в те годы шведский бронеавтомобиль “Ландсверк” имел удельную мощность 10,5 л.с. на тонну, “Фиат” – 8,25 л.с. на тонну, японский “Сумида” – 13,7 л.с. на тонну веса. Так что характеристики мотора V-8 вполне соответствовали “революционному” имиджу конструкции. Скорость на шоссе – до 90 км/ч – великолепный результат для бронеавтомобиля той эпохи. Топливного бака емкостью 114 л с лихвой хватало для марш-броска протяженностью 320 км.
Агрегаты бронемашины были вполне заурядными, автомобильными – четырехступенчатая планетарная коробка передач, мосты, подвеска, рулевое управление, колеса. Практически никакой новизны. Причем шины были самые обычные, даже протектор был шоссейный. Для повышения проходимости на задние колеса приходилось надевать цепи. Передний мост не имел привода, зато установленные по бокам кузова запасные колеса могли вращаться и должны были, по идее, помогать бронеавтомобилю преодолевать препятствия, не “садясь” на них днищем.
Конечно, Т4 не был идеальной конструкцией, но в тот момент он был наиболее “зрелым” броневиком американской разработки и его приняли на вооружение армии США, присвоив достаточно символический индекс М1. Кроме двух опытных экземпляров, было построено еще 20 серийных бронемашин типа М1. В ходе подготовки производства проект, за исключением кое-каких мелочей, не изменился. Так, например, у серийных М1, в отличие от прототипа Т4, были увеличенные окна в боковых дверцах – для улучшения обзора. Еще переделали корпуса фар: вместо яйцеобразных, стоявших на первом экземпляре, применили стандартные, но большего диаметра.
Эффектный хромированный бампер из двух полос (от лимузина) в серии заменили более мощным из стального проката. На крыше башни установили кронштейн для зенитного пулемета и радиоантенну новой конструкции. На широких крыльях задних колес были установлены по два длинных ящика для ЗИП вместо одного. К тому же, сзади справа вертикально закрепили бочку с дополнительным запасом топлива. Заказ был срочным – наступило время массовых моторизованных армий, потребовалось много современной техники, в первую очередь – для учебных целей.
Моторизация армии США поначалу шла маленькими шагами – в 1930 г. создается экспериментальное подразделение численностью 600 человек, имевшее на вооружении 15 танков (“Рено” FT и Т1Е1), десять бронемашин, одну артиллерийскую батарею на мехтяге, 66 грузовиков, семь тракторов и 22 легковых автомобиля.
Затем, на основании полученного опыта, было принято решение механизировать одну из регулярных частей. Выбор пал на 7-ю кавалерийскую бригаду армии США. Подобным образом тогда поступали во многих армиях мира: в механизированные сначала переводили наиболее подвижные части и соединения. В конце 20 – начале 30-х гг. в Сухопутных войсках таковыми являлись только кавалерийские полки и бригады.
Одним из новых типов вооружений, призванных заменить боевых коней, стал именно бронеавтомобиль М1, получивший классификационное название Combatcar. В 7-ю кавбригаду передали все 20 серийных экземпляров М1. В течение нескольких лет машины использовались как “учебные парты” для будущих командиров и водителей бронетранспортеров и танков. Пожалуй, единственными боевыми задачами, которые приходилось выполнять экипажам М1, было участие в перевозке слитков в хранилище золотого запаса США в Форт-Нокс или из него. Фото бронеавтомобиля М1 у въезда в эту известную всему миру цитадель – наиболее популярное в исторической литературе изображение первого в истории серийного броневика безрамной конструкции.
Бронемашины М1 имели стандартную окраску – однотонную оливковую. К башням прикреплялись небольшие, но хорошо заметные таблички с эмблемой кавалерии США – скрещенными саблями. Со временем эмблематика на бронеавтомобилях изменилась – на некоторых фотографиях М1 хорошо виден кавалерийский символ, нанесенный белой краской на боковые бронедверцы.
БОЕВАЯ МАССА – 4465 кг ЭКИПАЖ, чел. – 4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: Длина, мм – 4572 Ширина, мм – 1829 Высота, мм – 2108 Клиренс, мм – 199 ВООРУЖЕНИЕ: один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета Browning БОЕКОМПЛЕКТ: 7200 патронов ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: пулеметный прицел БРОНИРОВАНИЕ: лоб корпуса – 9,53 мм борт корпуса – 9,53 мм корма корпуса – 9,53 мм башня – 9,53 мм крыша – 6,35 мм днище – 6,35 мм ДВИГАТЕЛЬ: Cunningham V8, карбюраторный, 8-цилиндровый, жидкостного охлаждения, мощностью 133 л.с. ТРАНСМИССИЯ: механического типа ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: колесная формула 6х3, колеса одинарные, шины пневматические 6,75х32 дм СКОРОСТЬ: 89 км/ч ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ: 402 км ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: Глубина брода, м – 0,53
Русские броневики на отечественных шасси
Во времена Первой мировой войны единственным «счастливым» сочетанием отечественных автомобилей и бронекорпусов русского производства являлись бронемашины, базировавшиеся на шасси Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ).
Первыми в августе–сентябре 1914-го стали безбашенные броневики на 40-сильном легковом шасси С24-40, созданные по проекту инженера А. Я. Грауэна и оснащенные ижорскими корпусами с наклонным расположением бронелистов из хромоникелевой стали. Два пулемета Maxim помещались в лобовом и кормовом листах, третий можно было переносить с одного борта на другой. Скорость трехтонных машин не превышала 20 км/ч. На фронт они ушли в составе 1-й автомобильной пулеметной роты, но из-за слабого бронирования вскоре были сняты с вооружения.
Полностью русский броневик Грауэна на легковом шасси С24-40. 1914 год
Безбашенная машина Ижорского завода с задним расположением пулемета
В конце сентября 1914 года в петроградской мастерской инженера А. А. Братолюбова по проекту штабс-капитана Некрасова на том же шасси собрали три броневика с округлыми корпусами Обуховского завода с двумя 37-мм пушками Hotchkiss и тремя пулеметами. Такие же корпуса с пушкой Maxim смонтировали на трех однотонных грузовых шасси Д24-40. Все версии получились слишком тяжелыми и громоздкими, участия в боях не принимали и впоследствии были переведены на железнодорожный ход.
Пушечный броневик Некрасова и Братолюбова на автомобиле С24-40. 1915 год
В начале 1916 года в мастерской Братолюбова на шасси С24-40 появился оригинальный башенный броневик «Победоносец» с тремя пулеметами Maxim и вторым постом управления. Одновременно на грузовых шасси Д24-40 собрали еще три бронемашины, которые от легковых отличались усиленной рамой и новыми мостами. Оказавшиеся перегруженными и тихоходными, все они применялись как учебные машины и служили в охране Смольного.
Броневик «Победоносец» на шасси «Русско-Балтийский С24-40». 1916 год
Машины «Олег», «Ярослав» и «Святослав» на грузовых шасси Д24-40. Март 1917 года
В общей сложности до 1917 года на русских шасси было собрано всего лишь 20 броневиков.
Автомобили: Детская энциклопедия
Правда, в современной армии автомобили в большинстве случаев выполняют прозаическую повседневную транспортную работу и непосредственно не участвуют в боевых операциях, предоставляя это специализированным машинам на их базе — броневикам. Самые обычные грузовики без какой-либо броневой защиты, порой даже не снабженные средствами повышенной проходимости, тоже не раз «надевали» военную форму. Вы знаете про легендарные реактивные многозарядные установки на шасси обычных грузовиков, называемые в народе «Катюшами». Но ими вовсе не ограничивается ряд автомобильной техники подобного назначения. «Катюши», воздвигнутые на постаментах в память о минувшей войне, — лишь наиболее яркий символ боевого применения автомобиля.
Современный бронированный автомобиль.
ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЕМЕТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Впервые самоходную колесную машину вывели на поле сражения англичане. Это произошло в 1899 г. во время войны с бурами в Южной Африке. Конструктор Ф. Симмс взял за основу легкий четырехколесный одноместный автомобиль «Де Дион-Бутон», скорее напоминавший два сочлененных и снабженных мотором велосипеда, и установил на нем спереди пулемет «Максим» — новинку тех лет. Именно это сооружение положило начало рождению новой боевой единицы — «пулеметного автомобиля». В дальнейшем обычные автомашины с пулеметом на борту участвовали в различных боевых операциях. Они обладали неплохой по тем временам скоростью, а на наиболее мощных из них ухитрялись далее перевозить до взвода солдат.
В России на белостокских маневрах 1897 г. и на курских 1902 г. применялось также несколько типов автомобилей с бензиновыми двигателями. Во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. на дальневосточном театре военных действий при штабе главнокомандующего русских войск генерала Куропаткина имелось 11 легковых машин, которые использовались для поездок высших офицеров.
Позже в русской армии от использования единичных автомобилей стали переходить к созданию специальных автоподразделений. Первыми такими подразделениями были автомобильные команды при железнодорожных батальонах, организованные в 1910 г.
В период первой мировой войны в России практически не существовало своей автомобильной промышленности, если не считать рижского , производственные мощности которого не могли удовлетворить все потребности фронта.
Пулеметный автомобиль был не единственным изобретением Симмса. В 1902 г. талантливый англичанин построил бронированный грузовик с двигателем внутреннего сгорания.
Пулеметный автомобиль Симмса. 1899 г.
«Роллс-Ройс Сильвер Гоуст» в качестве санитарного автомобиля. 1916 г.
К началу первой мировой войны ведущие капиталистические страны — США, Англия, Франция, Германия — имели хорошо развитую автомобильную промышленность. Парк автомашин там был довольно внушительным, однако в армиях названных государств автомобилей было крайне мало, роль их явно недооценивалась. Во всех армиях автомобилями пользовались для разных целей, но везде — для перевозки припасов и прочих грузов. Пробовали строить самоходные зенитные установки, однако они представляли собой обычные орудия, установленные на платформе грузовика.
ВОЕННОЕ ТАКСИ
Транспортные возможности автомобилей, как грузовых, так и пассажирских, в полной мере раскрылись в условиях первой мировой войны. Автомобили с их подвижностью, свободой в выборе трассы, высокой средней скоростью, способностью к маскировке от нападения с воздуха стали важным видом военного транспорта, а в отдельных случаях и незаменимыми боевыми единицами. Об этом напоминает стоящий в Музее оружия в Париже среди танков и походных кухонь легковой автомобиль — обыкновенный «Рено», модель 1910 г.
Автомобилю «Рено-такси» посвящена французская почтовая марка. Его уменьшенные модели фигурируют на витринах магазинов игрушек, украшают чернильные приборы, пепельницы, точилки для карандашей. С изображением этого автомобиля во Франции можно встретиться везде — им покрыты столовые клеенки, пивные кружки, женские головные платки. И всюду под рисунками и моделями есть этикетка: «Марнское такси». Почему же у французов старенький «Рено» возведен в ранг национального героя?
В 1914 г. германская армия неудержимо двигалась к Парижу. Передовые отряды достигли реки Марны, приблизились к важной железнодорожной магистрали в нескольких десятках километров от столицы. Оборона города не была заблаговременно обеспечена войсками. 7 сентября положение стало критическим. Нужно было за сутки перебросить на Марну вновь сформированную дивизию. Железная дорога могла перевезти не более бригады, для переброски пешком не хватало времени. И вот генералов, руководивших обороной, осенила идея — призвать на помощь парижские автомобили-такси.
То, что будущая королева Великобритании Елизавета II в годы второй мировой войны была водителем и ремонтировала в автошколе автомобили, известно многим. Но далеко не все знают, что дамы из высших слоев британского общества водили военные автомобили в годы первой мировой войны. В автомобильном отряде служили 22 леди — графини, герцогини, супруги и дочери графов и пэров. Кто-то, возможно, подумает, что их военная служба была фикцией. Но это не так. Дамы носили защитную солдатскую форму и соблюдали все требования воинской дисциплины.
История рассказывает об операции, в которой участвовали лондонские автобусники. Она значительно превосходила по своим масштабам парижскую. 16 сентября 1914 г. в состав континентальных войск было включено 70 «двух-этажек» для переброски в Дюнкерк. Автобусы, с которых даже не успели снять рекламные щиты, перевозили войска то в Ипр, то в Лилли, то в Турне, осуществляя регулярную связь между Дюнкерком и действующими армиями. К октябрю на европейском театре военных действий применялось до 300 автобусов, объединенных в корпус армейской поддержки. Всего же за годы войны на фронт было отправлено около 1300 автобусов, из которых потом к «мирной жизни» вернулось всего 300.
В других крупных военных операциях тоже с успехом были применены автомобили. В мае 1915 г. в Галиции и в декабре в боях на реке Стырь победу русской армии обеспечил своевременный подвоз подкреплений, пулеметов и снарядов на автомобилях. Когда германская армия осаждала французский город и крепость Верден, единственная железная дорога, связывавшая город с тылом, находилась под обстрелом неприятельских орудий. На выручку были брошены грузовые автомобили «Берлье» и «Юник». До шести тысяч машин в сутки подходило по шоссе к Вердену. За три месяца боев было подвезено более миллиона солдат и около двух миллионов тонн грузов, вывезены сотни тысяч раненых.
К концу первой мировой войны в армиях стран, выступивших против Германии, числилось уже более 200 тыс. автомобилей.
АВТОМОБИЛИ РУССКОЙ АРМИИ
В российской армии стратегические автомобильные перевозки почти не применялись. В 1914 г. значительное количество автомобилей использовалось для подвоза боеприпасов в Лод-зинской операции. В 1916 г. во время Брусиловского прорыва 30 автомобилей перебросили на несколько десятков километров 79-ю пехотную дивизию.
На вооружении российской армии находились также и пулеметные автомобили. Однако впоследствии уязвимость не защищенных броней машин заставила отказаться от «автотачанок». Их сменили броневики.
Несмотря на то, что возможный противник был просчитан российским генштабом задолго до начала боевых действии, автопарк российской армии в большинстве своем был укомплектован автомашинами немецкого производства, в частности, изготовленными и «Бенц». В процессе войны эта вполне надежная техника была лишена поставок запасных частей и фактически мертвым грузом повисла на шее армии. Не спасла положение и мобилизация технических средств, проведенная в начале войны. 475 грузовиков и 3562 легковых автомобиля, собранные во время мобилизации, были слишком разнотипны, а этот факт существенно отражался на их эксплуатации и ремонте. Только в 1916 г. Россия стала приобретать технику крупными партиями, в основном автомобили ФИАТ, «Уайт», «Паккард», «Берлье» и «Рено».
Кроме автомобилей, закупаемых у союзников, в годы первой мировой войны в России началось производство собственных машин военного назначения, правда, в очень небольшом количестве. В мае 1913 г. по предложению инженера артиллерийской технической конторы Путиловского завода Лен-дера бортовую платформу 5-тонного грузовика производства Русско-Балтийского вагонного завода переделали для установки на нее качающейся «противоаэропланной пушки». Первые четыре машины поступили для испытания на Главный артиллерийский полигон под Петроградом в конце 1914 г.
В феврале 1915 г. первые самоходные зенитные пушки, способные развить скорость до 20 км/ч, были готовы, а в марте направлены для воздушного прикрытия Царского Села. Вскоре на Западный фронт отправилась вторая батарея, которой командовал капитан Тарновский. 17 июля она успешно отразила налет девяти германских аэропланов. Позже под Варшавой батарея сбила два вражеских самолета.
Следует отметить, что к концу 1917 г. с французской стороны в военных действиях принимали участие 92 тыс. автомашин, с английской — 76 тыс., с немецкой — 56 тыс., с русской — 21 тыс. Проба сил автомобиля в новом качестве прошла успешно.
ФИАТ — один из наиболее распространенных типов бронеавтомобилей в русской армии в годы первой мировой и гражданской войны. Бронирование осуществлялось на Ижорском заводе. Боевая масса 53 Щ экипаж — 4 человека; вооружение — два пулемета «Максим» 7,62 мм; бронезащита — 6—8 мм; максимальная скорость — 60 км/ч.
Автомобили в России считались «военнообязанными». В начале войны у частных лиц было реквизировано несколько тысяч легковых машин. Все они были «разномастные»: немецкие, американские, французские, итальянские.
Главной причиной, вынуждавшей Россию закупать автомобильную технику за пределами страны, была узкая гамма моделей, выпускаемых на ее автомобильных заводах.
Первая передвижная «противоаэропланная пушка» конструкции Лендера. 1914 г.
БРОНЕВИК: АВТОМОБИЛЬ ПЛЮС ЗАШИТА
В 1902 г. офицер русской армии Накашидзе в своей книге «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России» доказал экономическую выгоду применения автомобилей, в частности, в условиях Кавказа. В 1904 г. он разработал проект бронеавтомобиля собственной конструкции.
По его чертежам во Франции на шасси в конце 1904 г. был построен первый бронеавтомобиль, поступивший на вооружение русской армии. Корпус броневика был изготовлен из стали толщиной 4,5 мм. Его вооружение состояло из пулемета , установленного во вращающейся башенке. Запасной пулемет находился внутри корпуса. В 1906 г. после испытания на Красносельских маневрах приемная комиссия признала бронеавтомобиль «пригодным для разведки, связи, борьбы с конницей, а также для преследования отступающего противника».
Следующим бронеавтомобилем русской армии стал защищенный стальными листами «Рено». Такую конструкцию предложил в 1915 г. штабс-капитан Мгебров. Все машины этой марки имели радиатор, расположенный за двигателем, поэтому Мгеброву удалось построить бронеавтомобиль с сильно скошенной передней частью, напоминавшей по форме клин. Защищенность машины Мгеброва выгодно отличалась от других типов броневиков: пуля, пробивавшая вертикальный бронелист, скользила по наклонным плоскостям корпуса новой машины.
В том же году русский офицер Поплавко разработал на шасси полноприводного грузовика «Джеффери» бронеавтомобиль оригинальной конструкции. Форма его корпуса позволяла легко разрушать проволочные заграждения. Практически это был прообраз танка, который должен был двигаться перед наступающей пехотой, прокладывая ей путь.
БРОНИРОВАН И ВООРУЖЕН ПУШКОЙ
Проектирование тяжелого пушечно-пулеметного бронеавтомобиля началось осенью 1914 г. на Путиловском заводе. Проект разработал начальник Офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов. Машина предназначалась для усиления на поле боя подразделений пулеметных броневиков. Первый автомобиль этой серии, получивший название «Гарфорд», был готов к отправке на фронт 3 мая 1915 г., а к октябрю закончились работы на всех 30 запланированных к бронировке шасси.
Автомобиль «Рено», «бронированный» Мгебровым. 1915 г.
Бронированный автомобиль «Гарфорд».
Боевая масса — 8,6 т; экипаж — 8—9 человек; вооружение — три пулемета «Максим»; бронезащита —6,5мм; максимальная скорость — 18 км/ч, при движении задним ходом — 3 км/ч.
Броневой автомобиль «Остин-Путиловец». 1915 г.
Вместо задних колесу машины была широкая металлическая гусеничная лента. Передние колеса были сделаны более широкими, перед ними располагались специальные катки небольшого диаметра, помогавшие преодолевать рвы и канавы. Боевая масса —5,3 Щ экипаж— 5 человек; вооружение — два пулемета «Максим»; бронезащита — 8мм.
Корпус машины, изготовленный из броневых листов, устанавливался на специальную стальную конструкцию, приклепанную к раме шасси. Функционально он делился на три части. В передней, над двигателем, находилась водительская кабина. Бензобак размещался под сиденьями шофера и его помощника. Среднюю часть занимало пулеметное отделение, в котором находились два «Максима», установленных по левому и правому бортам. Всю заднюю часть броневика занимала вращающаяся броневая башня с установленной внутри противоштурмовой пушкой образца 1910 г. Кроме пушки, в башне был установлен еще один пулемет и располагались патронташи для 12 пушечных патронов. В стенках бронекорпуса были круглые амбразуры для обзора местности, закрывавшиеся заслонками. Изнутри бронекорпус был обшит войлоком и холстом.
Шасси «Гарфорда» оказалось несколько перегруженным, вследствие чего динамические характеристики машины были довольно скромными, а наличие только одного ведущего моста и сплошных шин резко ограничивало ее проходимость. Главным достоинством «Гарфорда», за которое ему прощали все недостатки, считалась мощная пушка.
Оставшиеся на территории России после первой мировой войны «Гарфорды» впоследствии участвовали в боях на всех фронтах гражданской войны. В зависимости от принадлежности («красным» или «белым») их переименовывали в «Карл Маркс» или «Корниловец», «Пролетарий» или «Россия», «Троцкий» или «Дроздовец».
В 1923 г. в связи с износом ходовой части было принято решение о переводе «Гарфордов» на железнодорожный ход. А в 1931 г. решили снять машины с вооружения и «разбро-нировать». Видимо, процесс затронул не все машины, поскольку они были запечатлены в 1941 г. на трофейных немецких фотографиях.
БРОНЕВИКИ СТРАНЫ СОВЕТОВ
К середине 20-х гг. Красная Армия располагала сотнями танков и бронеавтомобилей. Все эти машины были иностранного или русского производства, оставшиеся от царской армии. Прошедшие гражданскую войну, к концу первой четверти XX в. они исчерпали свои ресурсы и устарели морально. Было принято решение о разработке новых отечественных бронеавтомобилей. К работе над новой машиной приступили в 1926 г. под руководством инженеров Стрюканова и Важинского.
Летом 1927 г. технический проект, первый образец прошедшего испытания шасси и макет бронекорпуса были готовы. Документацию передали на Ижорский завод в Колпине, где бронекорпус был собран и установлен на шасси. В конце 1927 г. бронеавтомобиль БА-27 (броневой автомобиль 1927 г.) был готов и успешно прошел испытания. В начале 1928 г. БА-27 был принят на вооружение Красной Армии.
Первоначально машина имела два поста управления — передний и задний. Но вскоре от заднего отказались, что упростило конструкцию и уменьшило численность экипажа.
До конца 1931 г. было построено более 100 бронеавтомобилей БА-27. Единственный сохранившийся экземпляр этой серии, БА-27М, находится в танковом музее в Кубинке.
Одновременно с тяжелыми бронеавтомобилями БА-27 в производство была запущена серия легких машин Д. Первый советский легкий бронеавтомобиль Д-8 был создан на основе легкого автомобиля ГАЗ-А, выпускавшегося на Горьковском автозаводе (ГАЗ).
Следом за «восьмой» моделью был разработан бронеавтомобиль Д-12. Главное отличие его состояло в размещении вооружения — на Д-12 кроме пулемета в лобовом бро-нелисте была также установка с зенитным пулеметом «Максим», расположенная в люке боевого отделения. Стрельба по воздушным целям велась стоя.
Автомобиль Д-13.
Боевая масса —4,14 Щ экипаж — 3 человека; вооружение — скоростная пушка «Гочкис» 37мм, два пулемета «ДТ»; бронезащита — 5—8 мм; максимальная скорость — 55 км/ч; двигатель — ГАЗ-АА, карбюраторный, воздушного охлаждения, мощностью 40л.с.
Автомобили «Форд» после модернизации конструкции на Горьковском автозаводе стали называться: ГАЗ-А, ГАЗ-АА,ГАЗ-ААА
Бронеавтомобиль ФАИ-М. Бронирование —4—6мм.
Появлению в СССР одного из самых массовых советских автомобилей предшествовало соглашение с «отцом конвейерной сборки» Генри Фордом. С 31 мая 1929 г. Форд обязался начать поставки в Советский союз комплектующих частей для сборки машин «Форд А», «Форд АА» и «Форд Тимкен».
Сборка этих автомобилей началась в феврале 1930 г. на в Нижнем Новгороде. Впоследствии Нижний Новгород переименовали в Горький, а завод начал называться ГАЗ.
На основе горьковских бронеавтомобилей в 1931 г. конструкторское бюро Ижорского завода разработало новую машину. Бронеавтомобиль получил название «Форд А Ижор-ский» (ФАИ) и был запущен в серию с 1933 г. Экипаж машины состоял из двух человек, а основным вооружением был пулемет ДТ, установленный в башне с круговым обстрелом.
В 1935 г. часть броневиков ФАИ получила сменные бандажи на колеса, что позволяло им передвигаться по железнодорожным путям со скоростью до 86 км/ч. Эти машины использовались в составе бронепоездов в качестве легких разведывательных бронедрезин.
В 1935 г. на Ижорском заводе был разработан новый бронеавтомобиль на шасси автомобиля М-1, отличавшийся от предшественника более просторным боевым отделением, наличием у части машин радиостанции. Эту машину начали выпускать с 1936 г. под названием БА-20. В результате прекращения серийного производства бронеавтомобиля ФАИ на Ижорском заводе скопилось более трехсот бронекорпусов этих машин. Было принято решение установить их на шасси автомобиля М-1. Гибрид, получивший название ФАИ-М, отличался от прародителя более длинной базой, на которой был смонтирован дополнительный топливный бак с кронштейном для крепления запасного колеса. Бронеавтомобили ФАИ и ФАИ-М были вторыми по массовости в армии СССР в предвоенное время и принимали участие во всех боевых действиях, которые велись в 30-е гг. На фронтах Великой Отечественной войны они использовались вплоть до 1943 г.
ГАЗ-АА конца 30-х гг.
Русские бронеавтомобили на иностранных шасси
К этой категории относились бронемашины, базировавшиеся на зарубежных шасси, которые в России подвергались более или менее существенным доработкам для приспособления их к местным условиям или оснащались полностью новыми бронекорпусами.
Трехколесные бронемашины Филатова
В 1915–1916 годах по проекту начальника Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы генерал-майора Н. М. Филатова из списанных импортных агрегатов и узлов были собраны 15 оригинальных трехколесных броневичков с разными двигателями мощностью до 25 л.с., на которых монтировали бронекорпуса с одним или двумя пулеметами заднего расположения.
Испытания трехколесных пулеметных бронеавтомобилей Филатова, 1916 год
Бронеавтомобили Былинского
Летом 1915 года по проекту штабс-капитана Былинского на базе трофейных легковушек Mercedes на Обуховском заводе собрали две пушечно-пулеметные машины. Их особенностью были корпуса из хромо-никеле-ванадиевой стали с перископами и смонтированной внутри 37-мм пушкой, которая вела огонь через откидные панели. В поворотной башне помещались также пулемет Maxim и скорострельные ружья.
Демонстрация машины Былинского на 45-сильном шасси Mercedes. 1915 год
Бронемашина Улятовского
В 1916 году в мастерских упомянутой выше школы по проекту прапорщика Улятовского из иностранных деталей был собран легкий и компактный броневик, в задней части которого лежа располагался пулеметчик, стрелявший через амбразуру в кормовом листе. При замене пулемета пушкой машина существенно потяжелела, и работы по ней были прекращены.
Легкий пулеметный бронеавтомобиль прапорщика Улятовского. 1916 год
Бронеавтомобили Мгеброва
В первые годы войны по проекту штабс-капитана В. А. Мгеброва на Ижорском заводе собрали 16 броневиков на базе автомобилей разных стран, из которых самыми известными стали 11 бронемашин на 30-сильном легковом шасси Renault ED. Благодаря установке радиатора охлаждения между мотором и кабиной они выделялись характерным удлиненным клиновидным капотом, повышавшим живучесть экипажа. Первоначально два пулемета или 37-мм пушка помещались в одной крупной поворотной башне, которую в 1916-м заменили на две маленькие.
Бронемашина Мгеброва на французском легковом шасси Renault. 1916 год
Модернизированный вариант с двумя поворотными башнями. Осень 1916 года
В процессе доработки в России корпуса итальянского броневика Isotta-Fraschini на нем была смонтирована двухпулеметная башня от машины Renault.
Бронеавтомобиль Мгеброва на 100-сильном шасси Isotta-Fraschini. 1916 год
Ижорский ФИАТ
Зимой 1916 года был подписан договор с компанией FIAT на поставку легковых шасси мощностью 72 л.с. с двумя постами управления и задним мостом с двускатными колесами. Первая партия поступила на Ижорский завод для установки собственных бронированных корпусов с диагональным расположением двух пулеметных башен. Сборка броневиков началась в январе следующего года, и до апреля 1918-го завод собрал 47 бронемашин. Они имели боевую массу 5,3 тонны и развивали скорость до 70 км/ч.
Двухбашенный ижорский броневик FIAT на легковом шасси. 1917 год
Трофейная бронемашина FIAT в польской крепости Модлин (фото 1939 года)
Бронемашины Поплавко
В 1915 году на шасси американского грузовика Jeffery Quad (4×4) штабс-капитан Виктор Поплавко разработал и в мастерских 7-й армии построил оригинальный бронеавтомобиль с лебедкой, впервые ставший сочетанием боевой машины, мощного инженерного средства для разрушения проволочных заграждений, проделывания проходов в мелком лесу и эвакуатора поврежденной техники. Конструктивно это был бронированный грузовик с 40-сильным мотором, боевой рубкой для двух пулеметов и задним отсеком для боеприпасов и топлива. С экипажем из четырех человек он весил около восьми тонн и развивал скорость 32 км/ч.
Испытания универсальной полноприводной машины конструкции Поплавко
По результатам испытаний Военное ведомство выдало Ижорскому заводу заказ на 30 таких машин, которые в октябре 1916-го отправились на фронт в составе особого автобронедивизиона.
Броневик Виктора Поплавко на грузовом шасси с ижорским корпусом. 1916 год
Бронемашины «Гарфорд»
Самыми тяжелыми бронированными автомобилями русской армии были массивные пушечно-пулеметные машины на шасси американского грузовика Garford с кабиной над 35-сильным мотором Buda и бронекорпусами Путиловского завода, известные как «Путилов-Гарфорд». В задней вращавшейся башне размещалась штурмовая пушка калибра 76,2 мм. Рядом с ней находился пулемет, а в небольших боковых башенках имелись еще два–три пулемета. В стенках корпуса были выполнены круглые амбразуры с бронированными заслонками. Экипаж состоял из восьми человек, боевая масса достигала 8,6 тонн.
Тяжелый башенный бронеавтомобиль Garford на грузовом шасси. 1915 год
Вооружение «Гарфорда» состояло из одной пушки и нескольких пулеметов
До сентября 1915 года в Петрограде собрали 30 броневиков, а затем часть из них оборудовали вторым постом управления. На фронтах из-за слабости двигателя, неповоротливости и плохой проходимости все они перемещались только по дорогам.
Garford на Дворцовой площади Петрограда. Июнь 1917 года (фото D. Thompson)
По заказу Морского ведомства для охраны крепости в Финском заливе в конце 1917 года было собрано еще 18 длиннобазных бронемашин с усиленной броней, боевая масса которых возросла до 11 тонн.
Удлиненный вариант для охраны морской крепости Петра Великого. 1917 год
Полугусеничная бронемашина Гулькевича
В ходе Первой мировой войны единственным полугусеничным броневиком с корпусом русского изготовления была массивная машина конструкции полковника артиллерии Н. Гулькевича, родом из ахтырских казаков, которая могла
«проходить по всяким дорогам… разрывать и затаптывать в землю проволочные заграждения».
Ее основой являлся пушечный транспортер В-6 американской компании Allis-Chalmers с задними гусеничными движителями.
Полугусеничный бронеавтомобиль Гулькевича в Москве. Ноябрь 1917 года
В октябре 1916 года Путиловский завод собрал боевую машину «Ахтырец» с оригинальным корпусом с двумя постами управления и поворотной башней с пулеметами Maxim. В кормовом листе размещалась 76-мм пушка. Неповоротливая 12-тонная конструкция с экипажем из семи человек по ровной дороге могла перемещаться со скоростью не выше 15 км/час. Первоначально она служила в петроградском броневом дивизионе и после революции была переименована в «Красный Петербург».
Броневик «Красный Петербург» на полугусеничном шасси Allis-Chalmers (макет)
Всемирная история бронетехники
Бронепоезда
В наши дни ни одна армия мира не имеет на вооружении ни одного бронепоезда. Но было время, когда эти бронированные монстры помогали вершить историю. Особую роль этот вид бронетехники играл в годы Гражданской войны в России.
Первые бронепоезда появились в ходе Англо-бурской войны, начавшейся в Африке в 1899 году. Тыловые коммуникации англичан, в том числе железные дороги, регулярно страдали от партизанских действий буров. Чтобы как-то противодействовать этому, англичане начинают вооружать и укреплять свои поезда.
В России бум производства блиндированных и броневых поездов пришелся на 1918–1919 годы, когда в стране полыхала Гражданская война. Первые бронепоезда создавались кустарным способом из любого подручного материала. В ход шли товарняки, пульмановские вагоны или просто платформы, на которых сооружались невероятные конструкции из шпал, рельсов, мешков с песком, бревен и всего остального, что могло обеспечить хоть какую-то защиту. Создавались эти дивные образцы военной техники без всяких чертежей и расчетов, зато очень быстро, практически за день.
Самые совершенные в техническом плане бронепоезда того периода выпускались в Царицыне — это так называемые бронепоезда хлебниковской конструкции. Они состояли из двух четырехосных площадок, на каждой из которых устанавливались две вращающиеся башни двухслойной бронировки с пружинной (рессорной) прослойкой. Но состав с весившими 80 т площадками не мог пройти по некоторым мостам и слабому железнодорожному полотну.
Командование РККА смогло увидеть перспективы нового вида вооружения. Уже в марте 1918 года формируется Центральный совет по управлению бронечастями РСФСР. Через несколько месяцев совет реорганизуется в Центральное броневое управление (Центробронь).
В задачи вновь созданного управления входила унификация проектов бронепоездов и создание базы для их формирования.
Осенью 1918 года принята единая типовая конструкция бронепоезда, подобная русскому бронепоезду, разработанному в 1915 году. В марте 1919 года выходит инструкция по формированию бронепоезда. По инструкции он должен состоять из легкого поезда № 1 (две бронеплощадки с 3-дюймовыми орудиями и бронепаровоз), тяжелого поезда № 2 (полубронированный паровоз и две площадки с 4 — или 6-дюймовыми орудиями), а также резервной базы — поезда № 3. Но на практике получалось, что бронепоезда № 1 и № 2 использовались отдельно друг от друга.
В августе 1920 года появляется новая инструкция, классифицирующая бронепоезда. Согласно новой классификации поезда делятся на три типа: А — полевой ударный (штурмовой), с мощной броней, вооруженный 3-дюймовыми орудиями — предназначен для ближнего боя; Б — легкобронированный, с 42-линейным (103 мм) вооружением — для огневой поддержки ударных бронепоездов; В — аналогичный типу Б, но с усиленным артвооружением (6 дюймов и выше) — особого назначения, для разрушения тыловых объектов.
Кроме того, необходимо было выработать стратегию и тактику использования бронепоездов. Они применялись в основном в качестве ударного наступательного средства.
Стоило бронепоезду появиться в поле зрения противника, как на нем тут же концентрировалась вся огневая мощь вражеской артиллерии. Известен случай, когда генерал Юденич назначил премию в 10 тыс. золотых рублей за уничтожение красного бронепоезда № 44.
Такое внимание противника к бронепоездам создавало очень сложные условия их эксплуатации: машинистам приходилось то резко набирать скорость, чтобы выйти из-под огня, то, наоборот, резко тормозить. Это не могло не сказываться на состоянии подвижного состава — поезда быстро выходили из строя.
В марте 1919 года на Краматорском машиностроительном заводе формируется прифронтовая ремонтная база бронепоездов. Рабочей бригадой базы было восстановлено около двадцати бронепоездов, поступивших с находившегося неподалеку фронта. Но войска Деникина наступали, и вскоре ремонтная база была эвакуирована. После нескольких перемещений ремонтная бригада обосновалась на Брянском заводе в Болве. Переоборудование завода в основную базу бронепоездов РККА развернулось полным ходом осенью 1919 года и длилось всего два месяца. В сентябре с завода на фронт ушли четыре бронепоезда, в следующем месяце — пять, а в ноябре — шесть бронепоездов. За год на подвижном составе было установлено около 300 новых артиллерийских орудий различных калибров.
Проводились работы и по унификации бронепоездного парка. Разрабатывались орудийные и пулеметные установки, несколько систем вращающихся башен и бронепогребов для снарядов, усовершенствовались способы бронировки площадок и паровозов, разрабатывались бронеплощадки кругового обстрела с 6-дюймовыми орудиями (123 мм), а также полноповоротные установки 8-дюймовых (172 мм) 50-калиберных морских орудий «Канэ» на железнодорожных транспортерах «Красная Москва» и «Красный Петроград».
В период с августа 1919 и до конца 1920 года на Брянской базе отремонтировано 243 поезда.
Крупнейшим предприятием, выпускавшим броневой подвижной состав для Красной армии, был Сормовский завод Общества железоделательных, сталелитейных и механических заводов в Нижнем Новгороде. Основой его производственной программы являлись ударные поезда. Они состояли из бронепаровоза с трех — или четырехосным тендером и двух бронеплощадок, несущих по две башни с 3-дюймовыми пушками и шесть — восемь пулеметов каждая. Часто устанавливались и зенитные орудия, приспособленные также для стрельбы по наземным целям. Боевая масса одной бронеплощадки составляла 56–64 т, что позволяло двигаться по легкому железнодорожному полотну.
Бронепоезд № 1 создавался на Путиловском заводе по непосредственному заданию Ленина в октябре 1917 года, когда генерал Краснов был уже на подступах к Петрограду. Бронепоезд представлял собой две угольные платформы «Фокс-Арбель» типовой бронировки с паровозом серии Ч. Состав был вооружен противоаэроплановыми орудиями.
Впоследствии он был переоборудован в бронепоезд № 2 «Победа или смерть». Новый бронепоезд участвовал в боях в Москве, на Украине, у станции Лозовая, во взятии Харькова. Побывал он и в Павлограде, Полтаве, Бахмаче, Екатеринославе, Киеве. В феврале 1918 года «Победа или смерть» направился на Дон сражаться с войсками атамана Каледина. После взятия Ростова бронепоезд возвратился в тыл для ремонта и переоборудования.
После доработки из бронепоезда № 2 получился типичный штурмовой бронепоезд, состоящий из двух сормовских бронеплощадок типа С-30 и брянского бронепаровоза типа Б с четырехосным тендером. До конца войны поезд успел поучаствовать в боях в Ярославле, Донбассе и на Северном Кавказе.
Одним из самых известных бронепоездов Гражданской войны был состав № 6 «Путиловцы», сформированный в Нижнем Новгороде из батареи Путиловского артиллерийского «Стального дивизиона». Состав имел ряд особенностей, отличавших его от других бронепоездов Красной армии. Состав двигал паровоз серии Я с осевой формулой 1–3–0. Паровоз был бронирован, что являлось в то время редкостью.
Боевая часть состояла из двух легких сормовских бронеплощадок с 76-мм зенитными пушками. Непривычной была защита ходовых тележек — на них стояли сплошные неподвижные экраны с дверцами для доступа к буксам. На усиленной платформе устанавливался каземат и две концевые орудийные башни. Каземат представлял собой каркас из углового проката, покрытый мощной броней. Бронировка двухслойная, из высокосортной твердой стали, с прокладкой из древесины. Бронелисты внутреннего слоя крепились к каркасу, наружный слой с помощью винтов присоединялся к внутреннему. Пол каземата был защищен броней толщиной 5–6 мм.
Орудийная башня была выполнена в виде турели кругового вращения, смонтированной на неподвижной нижней части. Турель совершала полный оборот за 40 сек. Зенитные орудия монтировались на штатных станках, бронеплощадки были вооружены полевыми пушками на брянских или сормовских станках.
Бронепоезд был отправлен в район Орши, на демаркационную линию с Германией, где нес службу с августа по декабрь 1918 года. В октябре «путиловцам» довелось конвоировать эшелон с грузом контрибуционного золота на сумму 1,5 млрд. немецких марок, в ноябре бронепоезд участвовал в подавлении восстания в Гжатском уезде. После Орши 6-й бронепоезд переброшен на Южный фронт в распоряжение 12-й дивизии 8-й армии. Первый серьезный бой поезд «Путиловцы» принял в конце 1918 года в районе станции Лиски под Воронежем. В течение трех часов состав оттягивал на себя основные силы белогвардейцев, обеспечивая обходной маневр с фланга стрелковых частей, а затем одновременно с ними атаковал противника.
Впоследствии поезд № 6 побывал на Северо-Западном фронте, на Юго-Восточном, затем снова вернулся на Южный фронт, где и находился до окончания войны.
К этому времени его конструкция значительно изменилась. Бронепаровоз теперь был снабжен сормовским тендером, оборудованным командирской рубкой. Бронеплощадки, как и раньше, сормовского изготовления, но одна, вооруженная 76-мм зенитными пушками, как на бронепоезде № 3 «Власть Советам»; вторая, с 76-мм полевыми пушками, аналогична площадкам бронепоезда № 14. Бронепоезд № 6 «Путиловцы» имени тов. Ленина расформирован 15 ноября 1924 года.
К началу Великой Отечественой войны на вооружении Красной армии находились бронепоезда, построенные на Брянской базе бронепоездов. Они представляли собой бронесоставы высотой с пульмановский вагон, с отвесными прямыми бортами и прямыми клепаными орудийными башнями. Вооружение, как правило, состояло из четырех орудийных башен с 76-мм короткоствольными пушками, восьми станковых пулеметов, счетверенной зенитной пулеметной установки. Боевое применение показало, что эти бронепоезда уже не отвечают требованиям времени.
В период с октября 1941 по февраль 1942 года в городе Горьком строится бронепоезд «Козьма Минин». В то же время и по тому же проекту в Муроме создают бронепоезд «Илья Муромец». Эти бронепоезда значительно отличались от своих предшественников: приземистые, с наклонной броней и литыми башнями, они были вооружены реактивными и мощными зенитными установками.
В состав бронепоезда «Козьма Минин» входили бронепаровоз «Оn», две крытые и две открытые бронеплощадки, четыре двуосные контрольные платформы, составленные в два сцепа, — один в голове, другой в хвосте поезда. На бронепаровозе в верхней передней части тендера была оборудована рубка командира бронепоезда. На каждой бронеплощадке тоже имелись свои командирские рубки, соединенные телефонной связью с рубкой командира бронепоезда и отделением машиниста.
Паровоз защищен броней толщиной до 45 мм. Крытая артиллерийская бронеплощадка сверху имела 20-мм слой брони, по бортам — 45 мм. Открытая бронеплощадка несла бортовую броню толщиной 45 мм. Крытая бронеплощадка вооружена двумя 76-мм пушками с пулеметами в орудийных башнях от танка Т-34. На открытой бронеплощадке размещались полуавтоматические 25 — и 37-мм зенитные пушки и реактивная установка М-8.
Радиус действия артиллерии бронепоезда составлял 12 км. Кроме того, для усиления защиты от авиации на контрольных платформах устанавливались крупнокалиберные пулеметы ДШК и трехспаренные зенитные пулеметы ПВ-1.
Контрольные платформы несли на себе также рельсы, шпалы и другие материалы и инструменты для ремонта железнодорожного полотна.
Иностранные бронемашины в Царской армии
Основу пяти сотен колесных боевых машин, служивших в Царской армии, составляли самые разнообразные броневики, которые собирали около 20 фирм Европы и Америки. Из них самыми распространенными стали бронемашины известной британской компании Austin, поставившей в Россию в 1914–1917 годах 168 комплектных броневиков и 60 шасси для их сборки на месте.
Первые бронеавтомобили Austin
Главным военным достижением компании Austin стал выпуск 480 пулеметных бронеавтомобилей, построенных на 50-сильном шасси представительской легковушки Austin 30НР. Первую партию, отправленную в Россию в октябре 1914 года, составили броневики с односкатными деревянными колесами, пневматическими шинами и покатыми верхними боковыми листами кабины, за которой рядом друг с другом помещались поворотные башни с пулеметами Maxim калибра 7,62 мм. Под полом каждой из них крепились две «запаски» с литыми шинами, применявшиеся в боевой обстановке. На деле машины оказались слишком уязвимыми, и весной 1915-го Ижорский завод приступил к их модернизации.
Наиболее распространенный в России броневик Austin первой серии. 1914 год
К тому времени фирма Austin развернула выпуск броневиков второй серии с усиленной бронёй и модернизированной ходовой частью. В октябре они поступили на вооружение русской армии, но тоже себя не оправдали.
Доработанная и усиленная бронемашина Austin второй серии. 1915 год
В конце 1916-го фирма переключилась на выпуск броневиков третьей серии с пуленепробиваемыми стеклами, вторым постом управления и задними двускатными колесами. Их развитием в России стал вариант с башнями диагонального расположения, выпускавшийся уже в советские времена.
Бронемашины Armstrong-Whitworth
Эти машины стали одними из самых распространенных иностранных броневиков в Царской армии, снабженных доработанными в России корпусами. Основой двух вариантов являлись 60-сильный легковой автомобиль FIAT и английское спецшасси Charles Jarrett мощностью 38 л.с. Единственная партия из 40 броневиков, весивших 4–5 тонн, поступила в Россию летом 1916 года, но после первых же боев машины второй версии признали непригодными для воинской службы.
Броневик Armstrong-Whitworth-FIAT в дни Февральской революции. 1917 год
Рассказать в короткой статье обо всех броневиках тех давних времен не представляется возможным, но к ним мы непременно вернемся.
Источник — https://www.kolesa.ru/article/bashennye-i-bezbashennye-russkie-broneviki-pervoj-mirovoj
Текст книги «Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне»
«Слоны Ганнибала» Виктора Поплавко
9 ноября 1915 года на Юго-Западный фронт убыл 26-й автопулеметный взвод под командованием штабс-капитана Виктора Поплавко. В его составе имелась сверхштатная полубронированная машина под названием «Чародей». Она была построена по проекту командира взвода на шасси двухтонного полноприводного грузовик Jeffery Quard американской фирмы Thomas Jeffery company и предназначалась для обслуживания броневых автомобилей взвода на линии огня: подвоза боеприпасов, горючего и эвакуации поврежденных машин. А так как непосредственное участие в боях «Чародея» не предполагалось, он имел броню, прикрывающую мотор и кабину лишь спереди и с боков.
В январе 1916 года, учитывая лучшую проходимость «Джеффери» по сравнению с основной матчастью взвода, Поплавко решил использовать «Чародея» в качестве инженерной машины разграждения. Для этого на нем установили лебедку, два якоря-кошки с тросами и легкий разборный мост, служивший для преодоления окопов и рвов. 27 января подпоручиком Устиновым было проведено первое испытание. С помощью «кошек», заброшенных за заграждение, машина прорвала четыре ряда колючей проволоки и растащила рогатки, укрепленные проволокой к деревьям.
В дальнейшем, работая над усовершенствованием «Чародея», Поплавке сконструировал специальное ломающее приспособление, позволявшее, используя ударную силу грузовика, рвать проволоку и выворачивать из земли колья. Нижний броневой лист был установлен с таким расчетом, чтобы разрушенное заграждение машина подминала под себя, не мешая своему дальнейшему движению. Испытанный в конце апреля 1916 года, «Джеффери» показал хорошие результаты, что побудило штабс-капитана Поплавко обратиться за помощью к командованию 7-й армии:
«Прошу оказать содействие в проведении моей идеи в жизнь. Для этого необходимо лишь дать наряд на сталь на Ижорском в армии и дать мне кузнецов. Через две недели по получении всего будут созданы отряды «СЛОНОВ ГАННИБАЛА», применение которых будет на первое время поворотным ключом в кампании…
Броневой автомобиль «Джеффери» во время испытаний на полигоне Офицерской стрелковой школы. Октябрь 1916 года. На подножке машины – В. Поплавко (АСКМ).
На каждой машине будет помещаться шофер, пулеметчик и 10 нижних чинов, вооруженных кинжалами, маузерами и ручными гранатами. 30 таких машин подходят на рассвете к проволоке противника, где ровное место и твердый грунт, переходят через нее и под прикрытием своих пулеметов подходят к окопу. В то же время люди, бросив гранаты, прыгают в окоп и занимают его… Сзади движется густая цепь пехоты, по которой не будет ружейного и пулеметного огня. После этого люди с машин наводят переносные мосты, возимые каждым броневиком, автомобили переходят рез окоп и рвут вторую линию».
10 мая 1916 года «Чародей» испытывался в присутствии начальника инженеров 7-й армии полковника Полянского и офицеров штаба 2-го армейского корпуса. Машина на небольшой скорости свободно преодолела препятствие из 4 рядов кольев «толщиной 2,5 вершка, прочно вбитых в землю на 1/2—3/4 аршина». Затем, также без особого труда, дважды прорвала аналогичное заграждение, густо оплетенное колючей проволокой. В обоих случаях был проделан проход по ширине броневика, пригодный для движения пехоты. Кроме того, демонстрировалась наводка легкого моста для движения «Джеффери» через окоп или канаву «Результаты испытания поразительны!» – доносил в Ставку полковник Полянский.
Застрявший броневик «Джеффери» вытаскивают при помощи такой же машины.
Октябрь 1916 года (АСКМ).
В начале июня 1916 года штабс-капитан Поплавко вместе с «Чародеем» убыл в Петроград, где его «Джеффери» прошел всесторонние испытания на Инженерном полигоне. По их результатам Комиссия по броневым автомобилям постановила спешно изготовить 30 таких машин на Ижорском заводе. Заказ на их постройку был дан Главному военно-техническому управлению 8 августа 1916 года, а в конце сентября все броневики сдали заказчику. 6 октября 1916 года их демонстрировали членам Особого совещания по обороне государства и представителям Генерального Штаба.
Броневик «Джеффери» преодолевает проволочное заграждение.
Офицерская стрелковая школа, октябрь 1916 года (АСКМ).
Серийные машины в соответствии с требованиями имели полностью закрытый броневой корпус из 7-мм брони. В его передней части находился двигатель, за ним – боевая рубка экипажа. Причем обслуживание двигателя было возможно изнутри машины. В задней части, на месте грузовой платформы, был установлен невысокий броневой короб для запасных частей, горючего и боеприпасов. В случае необходимости там могло перевозиться несколько пехотинцев. Вооружение броневика состояло из двух пулеметов Максима на подвесных станках Соколова с четырьмя амбразурами для стрельбы. Для входа и выхода экипажа, состоящего из командира, шофера и двух пулеметчиков, с правой стороны корпуса имелась дверь. На переднем броневом листе крепилось съемное ломающее приспособление, изготовленное из уголка. Колеса оснащались дополнительными уширенными бандажами для движения по грунту. Двигатель мощностью 32 л.с. позволял бронеавтомобилю развивать скорость до 35 км/ч. Этого считалось достаточным, так как «Джеффери» предназначались прежде всего для выполнения «задачи особого назначения» – прорыва проволочных заграждений.
10 сентября 1916 года, еще до окончания постройки матчасти, был Высочайше утвержден штат Броневого автомобильного дивизиона Особого назначения: 30 бронированных «Джеффери», 4 грузовых и 4 легковых машины, 4 автоцистерны, 1 автомастерская и 9 мотоциклов. Его командиром стал получивший повышение в чине капитан Виктор Поплавко. Организационно дивизион делился на три взвода (по 10 броневиков), каждое отделение на три звена (по 3 машины), звеном командовал офицер.
Бронемашина «Джеффери» Броневого дивизиона особого назначения.
Юго-Западный фронт, лето 1917 года (РГАКФД).
16 октября 1916 года бронедивизион отбыл на Юго-Западный фронт, где вошел в состав войск 11-й армии. В конце декабря планировалось его использование в частной наступательной операции совместно с одной из стрелковых дивизий. В процессе подготовки к этому 20 декабря 1916 года 15 «Джеффери» участвовали в учебной атаке по прорыву заграждения на старой австрийской позиции. Оно состояло из четырех полос по четыре ряда кольев, густо оплетенных колючей проволокой. Броневики успешно справились с заданием, затратив на прорыв заграждения от 45 до 60 секунд и оставив после себя проходы для пехоты. Однако чтобы до начала общего наступления войск Юго-Западного фронта, намечавшегося на весну 1916 года, «противник не принял мер против новой техники», использование «Джеффери» отложили.
В январе 1917 года русское командование решило сформировать еще три аналогичных дивизиона для Юго-Западного и Румынского фронтов. Заказ на изготовление 90 «Джеффери» с улучшенным вариантом бронировки 14 февраля 1917 года получил Склад приборов и приспособлений при Офицерской стрелковой школе, а броня должна была поступать с Ижорского завода. Предполагалось начиная с середины марта сдавать ежемесячно по 15 машин. Однако реально построили только один броневик, отправленный 16 июня 1916 года в Запасной броневой дивизион.
Бронемашины Броневого дивизиона особого назначения перед боями.
Юго-Западный фронт, лето 1917 года (АСКМ).
В начавшемся 16 июня 1917 года наступлении войск 11-й армии бронедивизион Особого назначения для прорыва проволочных заграждений не применялся. Однако, действуя как обычные броневики, «Джеффери» оказали большую помощь 17-му армейскому корпусу, прикрывая его отход во время прорыва немцев на Тарнополь. Так, 7 июля у урочища Лисьи Ямы (северо-восточнее Тарнополя) машины 1-го отделения под командованием хорунжего Иноземцева атаковали немцев и под сильным артиллерийским огнем, заполняя прорывы в наших пехотных цепях, задержали продвижение противника на 3,5 часа. В тот же день 2-е отделение штабс-капитана Алексеевцева и 3-е штабс-капитана Устинова с 16 часов вели бой под м. Езерна, прикрывая эвакуацию имущества. С наступлением темноты, прорвавшись через объятую огнем Езерну и уничтожив склад боеприпасов, который не сумели вывезти, машины отошли к Тарнополю.
8 июля 1916 года все три отделения прикрывали переправы на р. Серет и шоссе Тарнополь – Ново-Заложице. Не имея связи с пехотой, отходившей, не оказывая никакого сопротивления, броневики с 8 утра до 8 вечера сдерживали немцев, непрерывно атакуя их, расстреливая в упор и не давая продвигаться. Кроме того, машины дивизиона вывозили из-под огня раненых, брошенные отступавшими войсками пулеметы и орудия. В ходе непрерывных двухдневных боев два броневика были разбиты огнем немецкой артиллерии, а три машины подорваны экипажами (из-за поломок вывести их в тыл не представлялось возможным).
18 июля 1-е отделение поддерживало части 122-й пехотной дивизии при атаке г. Гжималув. Машины ворвались в город, помогли пехоте выбить оттуда противника и 1,5 км преследовали его.
Основной причиной эффективных действий «Джеффери» в июльских боях являлась их повышенная проходимость и подвижность (за счет поворота передних и задних колес) по сравнению с другими типами броневых автомобилей. Особенно это было заметно в боях 7–8 июля 1917 года, когда из-за дождей грунтовые дороги стали практически непроходимыми для автомашин. Однако выявились и серьезные недостатки в системе бронировки и вооружения «Джеффери». Так, боевое отделение сильно нагревалось от находившегося там двигателя, а горизонтальный обстрел пулеметов составлял всего 15 градусов.
Бронеавтомобиль «Джеффери», забронированный по проекту штабс-капитана Поплавко, с установленным «ломающим приспособлением».
Бронемашины, захваченные немцами в боях под Тарнополем – два «Джеффери» и «Ланчестер». Лето 1917 года (фото из коллекции В. Скавыша).
2 октября 1917 года, после испытания «Джеффери», в присутствии членов штаба Юго-Западного фронта решено было «отказаться от применения этих машин для выполнения задачи особого назначения, а использовать их для выполнения задач обыкновенных броневых автомобилей, причем благодаря неудовлетворительному размещению и конструкции бойниц (пулеметных. – Прим
.
автора)
лишь при условии совместной работы одновременно не менее двух таких броневиков».
После октябрьского переворота 1917 года бронедивизион Особого назначения был «украинизирован» и включен в состав вооруженных сил Центральной Рады – правительства провозгласившей независимость Украины. Однако Центральная Рада не смогла долго удержаться у власти и бронеавтомобили «Джеффери» пошли по рукам. Большая их часть досталась Красной Армии и была передана во вновь сформированные бронеотряды.
Филатовские трехколески
Осенью 1915 года, когда в ГВТУ встал вопрос об изготовлении дополнительного количества пушечных броневиков (напомним, что к этому времени Путиловский завод выполнил заказ на 30 «гарфордов»), начальник Офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов получил от Главного Управления Генерального Штаба указание о разработке облегченного бронеавтомобиля с 76-мм противоштурмовой пушкой. Для этой цели было выделено 30 таких орудий, находившихся на складе в Москве, два из которых в декабре 1915 года доставили в Ораниенбаум. В это время в качестве пушечной машины для автопулеметных взводов уже был принят броневик «Ланчестер», поэтому Филатов вышел в ГВТУ с предложением о создании легкого броневика с 76-мм орудием. В конце того же года мастерские Офицерской стрелковой школы начали изготовление такой машины по проекту генерала Филатова. Почти одновременно здесь же приступили к постройке аналогичных по конструкции броневиков, вооруженных двумя пулеметами.
В качестве базы использовалось трехколесное (!) шасси специальной разработки, для сборки которого использовались задний мост, карданный вал, колеса и некоторые другие части с легковых автомобилей, не подлежащих ремонту. Поворот осуществлялся при помощи переднего колеса, установленного на специально сконструированной вилке и управляемого посредством металлических тяг штурвалом водителя. В качестве силовой установки применялись бензиновые моторы мощностью 16–25 л.с. «Кейс», «Гупмобиль», «Масквиль» и др.
Трехколесное шасси, использовавшееся для бронировки (фото из коллекции С. Ромадина).
Стрельбы из пушечной трехколески. Офицерская стрелковая школа, 1916 год.
Под машиной виден откидной сошник (АСКМ).
Машины имели полностью бронированный безбашенный корпус, склепанный из 4–6 мм бронелистов, вооружение – 76-мм противоштурмовая пушка или два пулемета Максима – монтировались в кормовом листе, а боеприпасы – в специальных стеллажах вдоль бортов. Экипаж каждого броневика состоял из трех человек. Для устойчивости при стрельбе пушечная машина имела под днищем опускающийся сошник.
Автор проекта генерал-майор Филатов считал, что благодаря небольшой массе трехколесные броневики смогут передвигаться вне дорог по лугу, пашне, песку, высокая подвижность позволит им легко объезжать воронки и препятствия, а небольшие размеры затруднят противнику ведение огня по ним. Кроме того, значительно меньшая стоимость трехколесок по сравнению с другими типами бронеавтомобилей позволила бы быстро наладить их массовое производство. По концептуальному решению трехколесные броневики являлись прообразом танкеток, получивших широкое распространение в начале 1930-х годов.
Офицеры осматривают пушечную трехколеску. Октябрь 1916 года (АСКМ).
К середине апреля 1916 года были готовы 9 трехколесных бронемашин – 8 пулеметных и один пушечный. Кроме того, по проекту служившего в Офицерской стрелковой школе прапорщика Улятовского из частей не подлежащих восстановлению автомобилей собрали один четырехколесный броневик небольшого размера. Первоначально его вооружение состояло из пулемета Максима кормовом листе корпуса, причем для уменьшения габаритов пулеметчики располагались лежа. Позже пулемет заменили 76-мм противоштурмовым орудием.
21 апреля 1915 года бронеавтомобили Офицерской стрелковой школы продемонстрировали руководству ГВТУ и Главного артиллерийского управления, которые высказались за «скорейшее широкое испытание систем». При этом представители ГАУ особо отметили трехколесный пушечный броневик:
«Вопрос о постановке 3-дм. пушки на автомобиль при условии легкости и подвижности представленной системы, быть может, близок к разрешению».
Пушечная трехколеска на огневой позиции во время стрельб. Октябрь 1916 года (АСКМ).
В июне 1916 года Ижорскому заводу был выдан заказ на изготовление 20 трехколесных бронемашин облегченной конструкции, вооружение которых состояло только из одного пулемета Максима в корме корпуса. Предполагалось, что за счет меньшей массы эти броневики будут обладать лучшей проходимостью.
13 октября 1916 года на полигоне Офицерской стрелковой школы прошли испытания всех типов легких бронемашин, «построенных по идее генерала Филатова»: четырех трехколесных – одного массой 83 пуда (1328 кг) с одним пулеметом и мотором производства Ижорского завода, двух массой по 120 пудов (1920 кг), вооруженных двумя пулеметами каждый с двигателями «Кейс» и «Гупмобиль», одного массой 170 пудов (2720 кг) с 76-мм противоштурмовой пушкой, двигателем «Кейс» и опускаемом при стрельбе сошником – и одного четырехколесного массой 180 пудов (2880 кг) с 76-мм противоштурмовой пушкой, двигателем «Кейс» и сошником. Кроме однопулеметной машины, изготовленной Ижорским заводом, все остальные машины построили в мастерских Офицерской стрелковой школы. В отчете об испытании говорилось:
«Испытание производилось в размере выполнения тактических задач. Причем выяснилось, что 4-колесный автомобиль ходить по грунту почти не может, 3-колесный пушечный ходит по грунту с трудом, 3-колесный двухпулеметный ходит по твердому грунту удовлетворительно, по мягкому со значительным трудом, 3-колесный однопулеметный ходит по грунту свободно.
Трехколески бронировки Офицерской стрелковой школы на испытаниях. 1916 год (АСКМ).
Стрельбы из пулеметной трехколески бронировки Ижорского завода. Октябрь 1916 года (АСКМ).
Пулеметные трехколески на полигоне. 1916 год (АСКМ).
Все трехколесные автомобили весьма поворотливы и подвижны, 3-колесному пушечному автомобилю для открытия стрельбы с переменой позиции на том же месте потребовалось 1 минута 10 секунд, считая от отдачи приказания до открытия огня, в каковое время входит поднятие и опускание сошника.
Более удачным Комиссия считает однопулеметный бронеавтомобиль, построенный по проекту генерал-лейтенанта Филатова на Ижорском заводе, которому дан заказ на 20 таких трехколесок, и в настоящее время, по заявлению присутствующего на испытании представителя завода старшего лейтенанта Певцова, готовы к сборке 7 штук.
Трехколесные бронеавтомобили: с 76-мм противоштурмовой пушкой (внизу) и двумя пулеметами Максима (вверху).
Комиссия считает возможным эти 7 штук отправить на фронт для боевого испытания в широких масштабах в том виде, какие они есть, на остальных же сделать следующее:
1. 8-сильный двухцилиндровый двигатель заменить более мощным, четырехцилиндровым, для этой цели были бы удобны двигатели «Форд».
2. Желательно увеличить сечение шин и присоединить к колесам тракторные барабаны, не увеличивая диаметра колес.
3. По предложению генерал-майора Вастунда боковую дверь желательно увеличить, прорезав броню до самого низа, чтобы эта дверь, будучи открытой, могла защитить стоящих за ней.
Пулеметные трехколески на испытаниях. 1916 год.
Впереди машина постройки Ижорского завода (АСКМ).
4. Закрыть броней коробку дифференциала.
5. Желательно осуществить разделение тормозов на задние колеса, чтобы иметь возможность, затормозив одно колесо, двигаться другим и тем самым поворачивать автомобиль своей силой вокруг вертикальной оси».
В октябре 1916 года по распоряжению Главного Управления Генерального Штаба, бронемашины Офицерской стрелковой школы отправили на фронт для испытаний в боевой обстановке. Их получили 1-й (две пулеметные), 7-й (две пулеметные), 8-й (две пулеметные и одна пушечная) и 9-й (одна пулеметная) броневые автомобильные дивизионы. Судя по донесениям командиров дивизионов, в боях машины показали себя хорошо. Косвенным подтверждением этого может служить телеграмма командира 8-го броневого дивизиона капитана Дзугаева:
«Вследствие частых боев весьма нуждаюсь в броневых машинах, необходимо выслать в дивизион 4 машины: «Гарфорд», 2 трехколески и 2 «остина».
Прапорщик Улятовский рядом с броневиком своей конструкции. 1916 год (АСКМ).
Что касается трехколесок, заказанных Ижорскому заводу, то пока точно нельзя сказать, сколько броневиков из заказанных двадцати было построено. Достоверно известно, что до конца 1916 года их изготовили 8 штук. Однако есть основания считать, что в течение 1917 года весь заказ был выполнен.
Активно использовались трехколески и в гражданской войне. Так, 21 августа 1918 года отряд из трех таких броневиков под командованием Аджаналова отправился из Петрограда в Баку «на помощь бакинскому пролетариату». Осенью 1918 года одна трехколеска под названием «Фибра» входила в состав 1-го броневого автомобильного дивизиона Добровольческой Армии. В апреле 1919 года она была разбронирована в Екатеринодаре «ввиду изношенности и боевой непригодности». Как минимум один трехколесный броневик имелся в составе авто-броне-пулеметного отряда охраны Смольного, убывшего на фронт в мае 1920 года. Последние сведения об этих машинах относятся к февралю 1922 года, когда в Управлении броневых сил РККА еще числились четыре трехколески.
Ижорский «Фиат» и Путиловский «Остин»
Планы ГВТУ на 1917 год предусматривали значительное увеличение парка броневиков. Как это следует из доклада военного инженера капитана Макаревского к 1 июля 1917 года планировалось иметь боевых машин на 70 взводов + 100 % резерва для восполнения потерь, то есть 380 пулеметных и 180 пушечных машин.
Во исполнение этих планов 21 февраля 1916 года Англо-Русский правительственный комитет в Лондоне заключил договор с представителями американского филиала , находящегося в городке Пужкипси, недалеко от Нью-Йорка, контракт на постройку 90 шасси для бронеавтомобилей со сроком поставки к 1 ноября 1916 года.
Для этой цели в качестве базового фирма использовала свое легковое шасси тип 55, соответствующим образом доработанное и усиленное. На нем установили более прочный задний мост с двухскатными колесами, новый четырехцилиндровый 72-сильный двигатель и второй пост управления. Кстати, двигатель являлся собственной разработкой американского филиала . Первая партия таких машин, получивших обозначение «Фиат» тип 55, ушла в Россию летом 1916 года.
Одновременно с этим Броневой отдел Военной автошколы разрабатывал проект бронировки «Фиата». Первоначально их было пять, различавшихся главным образом размещением вооружения. После всестороннего обсуждения, 23 апреля 1916 года Комиссия по броневым автомобилям утвердила наиболее удачный вариант. Бронировку «Фиатов» поручили Ижорскому заводу Морского ведомства, который летом 1916 года подготовил необходимые рабочие чертежи.
Постройка опытного, или как тогда говорили «пробного», образца броневика началась в конце сентября, а 2 декабря машина совершила первый пробег по маршруту Колпино – Петроград.
Пробный бронеавтомобиль «Фиат» бронировки Ижорского завода. Ярославль, лето 1918 года. Машина называется «Георгий Победоносец» (ЦМВС).
При проектировании бронекорпуса ижорского «Фиата» русские конструкторы учли накопленный к тому времени опыт эксплуатации бронеавтомобилей. Прежде всего была увеличена высота диагонально расположенных башен, снабженных специальными вентиляционными приспособлениями. Пулеметы, установленные на специальных зенитных станках с углом возвышения 80 градусов, прикрывались снаружи броневыми «щеками». Для управления машиной в бою у водителей переднего и заднего рулевых постов имелись специально сконструированные смотровые щели и круглые «глазки» в бортах. Во избежание попадания свинцовых брызг при обстреле броневика, место соединения башни с корпусом прикрывалось горизонтальным броневым кольцом. Посадка экипажа, состоящего из пяти человек, осуществлялась через две двери. Толщина брони составляла 7 мм для вертикальных и 4–4,5 мм для горизонтальных поверхностей, масса машины в боевом положении 4,5 т.
Серийный бронеавтомобиль «Фиат» Ижорского завода у здания Большого театра в Москве. Лето 1918 года. На заднем плане бронемашина «Гарфорд» (АСКМ).
Испытания пробного бронеавтомобиля, проведенные 3—16 декабря 1916 года, показали, что в целом он был сконструирован удачно, а благодаря мощному двигателю обладал хорошими динамическими качествами (скорость достигала 65–70 км/ч). Единственным серьезным изменением в конструкции броневика, введенным после испытаний, стала замена наклонного бронелиста перед радиатором на две бронестворки (по типу броневиков «Армстронг-Уитворт»). В таком виде машина была принята для серийного изготовления, которое началось в январе 1917 года.
Параллельно с постройкой пробного «Фиата» Комиссия по броневым автомобилям 23 ноября 1916 года обсуждала вопрос об установке на этих машинах движителя Кегресса. Решено было «выпускать «Фиаты» без приспособления Кегресса, так как его изготовление значительно задержит выпуск броневиков». Но в перспективе предполагалась установка «кегрессов» уже на готовые машины. Поэтому прапорщику А. Кегрессу поручили «разработать установку его приспособлений на бронеавтомобиль «Фиат». Однако этот проект осуществлен не был.
Броневик «Остин» русской бронировки, изготовленный Ижорским заводом по чертежам Путиловского. Зима 1920 года (АСКМ).
Несмотря на бурные события весны – лета, на 4 октября 1917 гола, состояние работ по бронированию «фиатов» на Ижорском заводе выглядело следующим образом:
«Заводом получено 50 шасси, из которых одно сдано Кегрессу для его приспособлений и 8 Английскому дивизиону. 41 имеется на Заводе, из них: 16 шасси закончены бронировкой и размещены на дворах Завода в различных местах; 25 шасси – работа по бронировке движется к концу и во избежание задержки в производстве Правление Завода просит доставить остальные шасси в кратчайший срок».
Всего же по состоянию на апрель 1918 года Ижорским заводом было изготовлено 47 броневиков этого типа. Впоследствии бронировка была продолжена, и готовые машины поступали на вооружение автоброневых отрядов Красной Армии.
Схема бронировки шасси «Фиат», 23 апреля 1916 года утвержденная Комиссией по броневым автомобилям для разработки чертежей (РГВИА).
Наряду с «фиатами» для постройки бронемашин на русских предполагалось использовать и шасси «Остин», хорошо показавшее себя в русских условиях. 25 августа 1916 года с этой фирмой заключили договор на шасси с двойным рулевым управлением – точно такое же двухрулевое шасси использовалось и для машин «Остин» 3-й серии.
В России бронировку шасси поручили Путиловскому заводу, который на основании эскизного проекта Броневого отдела Военной автомобильной школы к сентябрю 1916 года разработал чертежи. Причем согласно заказу из 60 броневых автомобилей 39 должны были иметь движитель Кегресса, к тому времени уже успешно опробованный на «Остине» 2-й серии.
Первоначально правление завода определило следующие сроки изготовления машин:
«10 штук к 15 января 1917 года и 10 в месяц со сдачей последних броневиков к 15 июня, при условии, что шасси будут поступать за три месяца до срока».
Однако из-за того, что шасси начали прибывать в Россию только в январе 1917 года (к февралю получено около
20 штук) работы по постройке бронеавтомобилей задерживались, а после Февральской революции и вовсе прекратились. 18 марта 1917 года штабс-капитан Иванов, наблюдавший за постройкой боевых машин на Путиловском заводе, докладывал в ГВТУ:
«В настоящее время на Путиловском , готовящиеся к бронировке, из которых к июлю должно быть выпущено 60 штук. Ни одно из них не забронировано и ничего не делается».
Дело сдвинулось с мертвой точки только в августе, и к марту 1918 года было забронировано два шасси и три находились в полузаконченном виде.
В конструкции Путиловского «Остина» учли опыт боевого применения английских машин этой марки. Прежде всего, бронеавтомобиль получил диагонально расположенные башни и зенитные пулеметные станки с углом возвышения около 80 градусов. Во избежание попадания пулеметных гильз в щель между корпусом и башней и заклинивания последней (такие случаи бывали на английских «остинах» крышу сделали двухскатной. Водители переднего и заднего рулевых постов имели улучшенную обзорность при движении в бою. Корпус броневика изнутри обивался тонким войлоком для защиты экипажа от кусочков металла при обстреле. Толщина брони составляла 7,5 мм для вертикальных и 4 мм для горизонтальных поверхностей. Масса машины с экипажем из 5 человек, запасами горючего и патронов составляла 4,6 т, а скорость около 55 км/ч. Любопытная деталь: часто используемое в отечественной литературе название машин этого типа «Остин-путиловец» не встречается ни в одном документе. В1918—1921 годах такие броневики иногда называли «русским «Остином».
Бронеавтомобиль «Остин» бронировки Ижорского завода на маневрах. 1920-е годы.
Машина имеет нештатные крылья колес (РГАКФД).
Весной 1918 года все работы по бронировке «остинов» на Путиловском заводе были прекращены, несмотря на то, что была заготовлена броня и ряд других деталей. В 1919 году бронировку этих машин передали Ижорскому заводу, который, используя имевшийся задел, изготовил 33 обычных «Остина» и 12 на приспособлениях Кегресса. Таким образом, суммарный выпуск броневиков этой марки составил 50 машин.
ВВЕДЕНИЕ
Появление этой книги имеет свою довольно давнюю историю. Побудительными мотивами для сбора материалов по истории броневого дела в России начала XX века послужили две фотографии, попавшие в руки автора почти 25 лет назад.
Однажды, когда наш 7 «А» класс участвовал в очередном школьном сборе макулатуры, среди пачек различных бумаг мне попалось несколько журналов «Нива» за 1915 год. В одном из них я увидел фото броневика с подписью «Бронированный автомобиль, действовавший с необычайным успехом против неприятеля под Лодзью и Сохачевым. По фот. нашего корреспондента». Этот снимок, весьма посредственного качества, тогда меня озадачил: оказывается, еще в Первую мировую войну наша страна имела на вооружении бронемашины! В тексте журнала никаких комментариев к фото не было, не удалось найти никакой информации и в библиотеках – в то время не было такого обилия литературы по истории военной техники, как сейчас. Единственное, что удалось найти – это книга В.Д. Мостовенко «Танки». В ее начале была небольшая главка о развитии броневого дела в России, но среди рисунков ничего похожего на найденный мною броневик не нашлось.
Помню, с каким нетерпением я ждал выхода книги Л. Гоголева «Бронемашины», заявленной издательством ДОСААФ на 1986 год, и как я был разочарован, купив ее: о моем броневике в ней не было ни слова. Правда, в этой работе была кое-какая ранее не встречавшаяся информация о русских броневиках Первой мировой войны, но их фото имелось крайне мало.
Примерно в то же время мне подарили «Советскую военную энциклопедию», в одном из томов которой, в статье, посвященной Первой мировой войне, оказалась фотография с подписью «Русский бронепоезд на Юго-Западном фронте, 1915 год» (фото помещено на стр. 395). Оказывается, кроме бронемашин у нас в то время были и бронепоезда! Но кроме упоминаний в некоторых изданиях о том, что в 1914–1917 годах в России имелось не то 10, не то 12 бепо, тогда ничего обнаружить не удалось.
В 1990 году я впервые начал работу по теме «Бронесилы Русской Армии» в Российском (тогда еще Центральном) государственном военно-историческом архиве. Помню свои первые попытки среди множества описей различных военных организаций, учреждений и частей найти нужное: где искать – я не знал. Помню первую удачу – дело о бронированном поезде 2-й Заамурской железнодорожной бригады. Постепенно приходил опыт, находились нужные документы. Работа в других архивах, различных музеях и библиотеках помогла дополнить найденные материалы, дала возможность подобрать иллюстративный ряд – фотографии, рисунки, чертежи. И чем больше я «погружался» в данную тему, тем более грандиозная картина вырисовывалась.
Оказалось, что несмотря на культивировавшуюся у нас все советские годы теорию о тупости и косности царских военных чиновников, у истоков броневого дела в нашей стране стояли талантливые конструкторы, опытные инженеры и боевые командиры, отдававшие служению Отечеству всю свою энергию, все силы и знания. Генерал-лейтенант Филатов, генерал-майоры Секретев и Колобов, полковники Бутузов и Добржанский, капитаны Гурдов, Бажанов, Кондырин, Халецкий, Дзугаев, Миклашевский, штабс-капитаны Мгебров, Некрасов, Былинский, Поплавко, Мещеренинов, лейтенант флота Ульянов, прапорщики Вонлярлярский, Улятовский, Кегресс, Карпов и десятки других офицеров являлись цветом Русской Армии, ее славой и гордостью.
Бронеавтомобиль «Маннесманн-Мулаг» (с 47-мм пушкой) 1-й автопулеметной роты.
Снимок из журнала «Нива» за 1915 год.
Броневое дело в Российской Империи в годы Первой мировой войны было на столь высоком уровне, что в этом вопросе наша страна в те годы опережала и союзников, и противников. Уже 19 августа 1914 года приказом военного министра была сформирована 1 – я автомобильная пулеметная рота – первая в мире броневая часть! В это же время под Тарнополем вел бои русский бронепоезд 9-го железнодорожного батальона – один из первых бепо Первой мировой войны. К октябрю 1917 года по количеству, организации, качеству, тактике использования бронемашин и бронепоездов Русская Армия не уступала, а во многом и превосходила армии других воюющих государств. Лишь по количеству бронеавтомобилей Россия незначительно уступала Англии.
К сожалению, многих документов по истории русских бронечастей Первой мировой войны автору обнаружить не удалось. Особенно плохо обстоит дело с документами 1917 года и материалами о боевых действиях автопулеметных отделений, бронедивизионов и бронепоездов. Не удалось найти фотографий многих бронеединиц, а также офицеров, занимавшихся их проектированием. Возможно, они пропали во время революции и Гражданской войны или были уничтожены «за ненадобностью» в 1920 – 1940-е годы, а может быть, еще ждут своих исследователей.
Во всех цитируемых в данной книге документах грамматика, орфография и стиль изложения приводятся без изменений. Так как в то время в России массу измеряли в пудах и фунтах, а дистанцию в шагах, после этих значений в скобках дается перевод данных величин в килограммы и метры. Все даты до января 1918 года приводятся по старому стилю.
Автор выражает благодарность всем, кто помогал в сборе материалов для написания данной книги: сотрудникам (работавшим тогда и работающим сейчас) Российского (тогда еще Центрального) государственного военно-исторического архива Татьяне Бурмистровой, Татьяне Каменовой и Алексею Котову, директору музея Ижорского завода Ларисе Бурим, работникам Российского государственного архива кинофотодокументов и лично Нине Большаковой, а также | Янушу Магнускому |
(Польша), Станиславу Кирельцу (Германия), Сергею Ромадину (Украина), Семену Федосееву (Москва), Сергею Санеееву (Россия), Геннадию Петрову (Россия), Василию Скавышу (Россия), Дмитрию Назарову (Россия), Стиву Залоге (США).
Автор будет благодарен всем, кто поделится документами, воспоминаниями, фотографиями и другими материалами по данной теме. Свои замечания и уточнения вы можете присылать по адресу: 121096, Москва, а/я 11 Коломийцу Максиму Викторовичу или на e-mail: .
Максим Коломиец
БРОНЯ РУССКОЙ АРМИИ
Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне
Введение
Появление этой книги имеет свою довольно давнюю историю. Побудительными мотивами для сбора материалов по истории броневого дела в России начала XX века послужили две фотографии, попавшие в руки автора почти 25 лет назад.
Однажды, когда наш 7 «А» класс участвовал в очередном школьном сборе макулатуры, среди пачек различных бумаг мне попалось несколько журналов «Нива» за 1915 год. В одном из них я увидел фото броневика с подписью «Бронированный автомобиль, действовавший с необычайным успехом против неприятеля под Лодзью и Сохачевым. По фот. нашего корреспондента». Этот снимок, весьма посредственного качества, тогда меня озадачил: оказывается, еще в Первую мировую войну наша страна имела на вооружении бронемашины! В тексте журнала никаких комментариев к фото не было, не удалось найти никакой информации и в библиотеках — в то время не было такого обилия литературы по истории военной техники, как сейчас. Единственное, что удалось найти — это книга В. Д. Мостовенко «Танки». В ее начале была небольшая главка о развитии броневого дела в России, но среди рисунков ничего похожего на найденный мною броневик не нашлось.
Помню, с каким нетерпением я ждал выхода книги Л. Гоголева «Бронемашины», заявленной издательством ДОСААФ на 1986 год, и как я был разочарован, купив ее: о моем броневике в ней не было ни слова. Правда, в этой работе была кое-какая ранее не встречавшаяся информация о русских броневиках Первой мировой войны, но их фото имелось крайне мало.
Примерно в то же время мне подарили «Советскую военную энциклопедию», в одном из томов которой, в статье, посвященной Первой мировой войне, оказалась фотография с подписью «Русский бронепоезд на Юго-Западном фронте, 1915 год» (фото помещено на стр. 395). Оказывается, кроме бронемашин у нас в то время были и бронепоезда! Но кроме упоминаний в некоторых изданиях о том, что в 1914–1917 годах в России имелось не то 10, не то 12 бепо, тогда ничего обнаружить не удалось.
В 1990 году я впервые начал работу по теме «Бронесилы Русской Армии» в Российском (тогда еще Центральном) государственном военно-историческом архиве. Помню свои первые попытки среди множества описей различных военных организаций, учреждений и частей найти нужное: где искать — я не знал. Помню первую удачу — дело о бронированном поезде 2-й Заамурской железнодорожной бригады. Постепенно приходил опыт, находились нужные документы. Работа в других архивах, различных музеях и библиотеках помогла дополнить найденные материалы, дала возможность подобрать иллюстративный ряд — фотографии, рисунки, чертежи. И чем больше я «погружался» в данную тему, тем более грандиозная картина вырисовывалась.
Оказалось, что несмотря на культивировавшуюся у нас все советские годы теорию о тупости и косности царских военных чиновников, у истоков броневого дела в нашей стране стояли талантливые конструкторы, опытные инженеры и боевые командиры, отдававшие служению Отечеству всю свою энергию, все силы и знания. Генерал-лейтенант Филатов, генерал-майоры Секретев и Колобов, полковники Бутузов и Добржанский, капитаны Гурдов, Бажанов, Кондырин, Халецкий, Дзугаев, Миклашевский, штабс-капитаны Мгебров, Некрасов, Былинский, Поплавко, Мещеренинов, лейтенант флота Ульянов, прапорщики Вонлярлярский, Улятовский, Кегресс, Карпов и десятки других офицеров являлись цветом Русской Армии, ее славой и гордостью.
Бронеавтомобиль «Маннесманн-Мулаг» (с 47-мм пушкой) 1-й автопулеметной роты.
Снимок из журнала «Нива» за 1915 год.
Броневое дело в Российской Империи в годы Первой мировой войны было на столь высоком уровне, что в этом вопросе наша страна в те годы опережала и союзников, и противников. Уже 19 августа 1914 года приказом военного министра была сформирована 1 — я автомобильная пулеметная рота — первая в мире броневая часть! В это же время под Тарнополем вел бои русский бронепоезд 9-го железнодорожного батальона — один из первых бепо Первой мировой войны. К октябрю 1917 года по количеству, организации, качеству, тактике использования бронемашин и бронепоездов Русская Армия не уступала, а во многом и превосходила армии других воюющих государств. Лишь по количеству бронеавтомобилей Россия незначительно уступала Англии.
К сожалению, многих документов по истории русских бронечастей Первой мировой войны автору обнаружить не удалось. Особенно плохо обстоит дело с документами 1917 года и материалами о боевых действиях автопулеметных отделений, бронедивизионов и бронепоездов. Не удалось найти фотографий многих бронеединиц, а также офицеров, занимавшихся их проектированием. Возможно, они пропали во время революции и Гражданской войны или были уничтожены «за ненадобностью» в 1920–1940-е годы, а может быть, еще ждут своих исследователей.
Как русская броня воевала. Ч. 1. У Стрыкова и Пабианице
Уже к началу Первой мировой войны, учитывая большую скорость движения автомашины, была выдвинута идея ее использования в военном деле — для связи, разведки и нанесения внезапных ударов по тылам противника. Бронирование и вооружение пулеметом или небольшой пушкой сделало такую машину (бронеавтомобиль) новым боевым средством — отличающимся быстротой передвижения, эффективным пулеметным и артиллерийским огнем по открытым целям и повышенной боеготовностью.
К постройке бронеавтомобилей в России приступили сразу после начала Первой мировой войны.
1. А. Н. Добржанский
17. 08. 1914 г. военный министр генерал от кавалерии В. А. Сухомлинов, вызвав к себе одного из лучших стрелков русской гвардии полковника А. Н. Добржанского, предложил ему сформировать и возглавить «бронированную пулеметную автомобильную батарею». Задача была выполнена в рекордно короткий срок, и 22 сентября Александр Николаевич возглавил 1-ю Автомобильную пулеметную роту. А в октябре того же года рота выдвинулась на фронт.
2. Н. М. Филатов.
Первоначально в составе части было 8 пулеметных (на шасси «Руссо-Балт») и 1 пушечный (на шасси 5-тонного грузовика «Манесман-Мулаг»; вооружение 47-мм морская пушка) бронеавтомобилей. Кроме того, в составе роты имелось 2 (затем 4) грузовика с 37-мм автоматическими пушками Максима-Норденфельда.
К формированию бронеавтомобильных частей русской армии был причастен и начальник Офицерской стрелковой школы генерал-майор Н. М. Филатов – его инициативой офицеры, изъявившие желание служить в этих частях, направлялись в Военную автомобильную школу (имевшую специальное отделение для бронечастей).
Пополнению бронепарка русской армии способствовала миссия командира Учебной автомобильной роты полковника П. И. Секретева – она должна была заказать в Великобритании автомобильную и бронеавтомобильную технику (мощностей Русско-Балтийского вагонного завода пока не хватало).
3. П. И. Секретев.
Было приобретено следующее количество бронеавтомобилей на шасси: «Остин» — 48, Рено — 40 и «Изотта Фраскини» — 1. Прибытие «Остинов» (этот тип стал самым массовым броневиком русской армии), позволило (после перебронирования на Ижорском заводе – британская броня была крайне слаба) начать формирование автомобильных пулеметных взводов — в штат которых первоначально входило три броневика.
Потребность в пушечных броневиках привела к тому, что в начале 1915 г. на Путиловском заводе началась работа по бронированию 4-тонных американских автомобилей «Гарфорд» («Гарфорд Путиловец»), вооруженных 76-мм противоштурмовой пушкой и 3 пулеметами. По новому штату каждый автомобильный пулеметный взвод должен был иметь 2 пулеметных и пушечный бронеавтомобили.
Весной 1915 г. в Россию начали прибывать (в разобранном виде) броневики «Рено». Вооруженные пулеметом, не имея горизонтального бронирования, они использовалась в бронечастях для подвоза боеприпасов (в основном к пушечным броневикам), а 11 единиц было передано на Ижорский завод — для бронирования по системе штабс-капитана Мгеброва.
4. Бронеавтомобиль на шасси Рено. Нива. 1915. № 30.
По системе Мгеброва было бронировано 16 машин: «Рено», «Уайт», «Пирс-Эрроу», «Бенц», «Изотта-Фраскини», «Руссо-Балт». Машины Мгеброва отличали совершенные формы бронекорпусов (рассчитанных на рикошет) и 2-пулеметные башни оригинальной конструкции.
В петроградских мастерских А. Братолюбова по системе штабс-капитана Некрасова бронировалось еще 11 машин (10 «Руссо-Балт» и «Рено»), а на Обуховском заводе под руководством штабс-капитана Былинского были забронированы 3 машины (2 «Мерседеса» и «Ллойд»). Последние должны были действовать вместе с кавалерией: «Ллойд» имел две, а «Мерседесы» — по одной пулеметной башне («Мерсы» были вооружены еще и 37-мм пушками, установленными на тумбах в кормовой части корпуса). «Ллойд» и «Мерседесы» укомплектовали 25-й автомобильный пулеметный взвод.
5. Броневики Остин. Нива. 1915. № 30.
Во второй половине 1915 — весной 1916 г. из-за границы в Россию прибыл 161 бронеавтомобиль (60 «Остинов» 2-й серии, 36 «Армиа-Мотор-Лориес», 30 «Армстронг-Уитворт-Фиат», 25 «Шеффильд-Симплекс», 10 «Армстронг-Уитворт-Жаррот»). Пригодными для боевого применения оказались лишь «Остины», а остальные пришлось дорабатывать, устранять недостатки. «Жарроты» и «Фиаты» стали поступать на фронт лишь в конце 1916 г., в то время как «Шеффильды» и «Армиа» в Действующую армию так и не попали (один «Шеффильд-Симплекс» был превращен в бронедрезину, остальные – не успели).
Для укомплектования пушечных отделений новой серии (формируемой из «Остинов» 2-й серии) автопулеметных взводов понадобился новый пушечный бронеавтомобиль. Тогда 37-мм пушкой Гочкиса вооружили 22 бронеавтомобиля «Ланчестер», предназначавшихся для Английского бронедивизиона – и с лета 1916 г. новые пушечные броневики успешно применялись на Русском фронте.
6. Автопулеметный взвод русской армии. Видны «Ланчестер», два «Остина», автомобили и мотоциклы. Бронеколлекция. 1997. № 1.
Летом началось и бронирование (по системе штабс-капитана Поплавко) 30 грузовиков «Джеффри» — впоследствии из них был сформирован Броневой дивизион Особого Назначения. А Путиловскому заводу был дан заказ на разработку пушечного бронеавтомобиля на базе грузовика «FWD» — и уже в октябре 1916 г. небронированное шасси с установленной на нем 76,2-мм полевой пушкой образца 1902 г. успешно прошло испытания. Было решено усилить вооружение, установив на машине 42-х линейную (107-мм) пушку с прекрасными баллистическими данными (броневик фактически становился самоходным орудием), но после февраля 1917 г. работы были прекращены.
7. «Кавказец» — «Остин» 1-й серии. 45-й автопулеметный взвод, октябрь 1916 г. Бронеколлекция. 1997. № 1.
В сентябре 1916 г. броневые части Русской армии перешли на дивизионную структуру. Помимо Броневого дивизиона Особого Назначения было сформировано 12 броневых автомобильных дивизионов, Английский и Бельгийский бронедивизионы. Каждый дивизион включал в свой состав 3 — 4 автопулеметных взвода. Взводная организация осталась там, где это было целесообразно – например, на Кавказском фронте.
Помимо приобретения 60 «Остинов», было решено организовать широкомасштабное бронирование автомобильных шасси на русских заводах. Для этой цели были приобретены 150 шасси (90 «Фиат» и 60 «Остин») – бронированием занялись Путиловский и Ижорский заводы. Из-за задержек с поставкой шасси работы были сорваны — к октябрю 1817 г. было забронировано лишь 41 шасси «Фиат».
8. Русский «Остин» Ижорского завода. Бронеколлекция. 1997. № 1.
Одновременно на Обуховском заводе по системе старшего лейтенанта Ульянова бронировалось 31 шасси «Паккард» — в законченном виде был изготовлен лишь один экземпляр, вооруженный 37-мм автоматической пушкой Максима-Норденфельда во вращающейся башне на крыше корпуса и 7,62-мм пулеметом «Максим» в башенке в кормовой части машины.
9. «Остины» 2-й серии. 9-й Броневой автомобильный дивизион «смерти». Лето 1917 г. Бронеколлекция. 1997. № 1.
Интересно отметить и факт развития полугусеничных машин, изготовленных по проекту заведующего Технической частью Собственного Его Императорского Величества гаража А. Кегресса. Летом — осенью 1916 г. испытание «Остина» 2-й серии было настолько успешно, что было решено поставить на гусеничный ход часть бронируемых «Остинов» и «Фиатов», а также все пушечные «Паккарды» Обуховского завода. В перспективе же намечалось оборудовать движителем Кегресса все бронеавтомобили Русской армии. Планам сбыться было не суждено: помешала революция, после которой А. Кегресс покинул Россию.
10. «Остин-Кегресс». Фото 1919 г. Бронеколлекция. 1997. № 1.
Необходимо упомянуть и оригинальные 3-колесные пушечно-пулеметные броневики, строившиеся Ижорским заводом и Офицерской стрелковой школой, бронеавтомобили прапорщика Вонлярлярского, бронеавтомобиль «Бурфорд» (забронированный на Кавказе).
Наконец, стоит сказать и о русской танковой программе. Речь идет не о сложных конструкциях танков А. Пороховщикова («Вездеход») и Н. Лебеденко («Царь-танк»), обоснованно отвергнутых ГВТУ, а о следующем. Во-первых, для укомплектования планируемых к формированию танковых частей Русской армии предполагалось в 1917 — 1918 гг. закупить во Франции 360 танков «Шнейдер» (присутствовал интерес и к английскому танку MK V); во-вторых, имелся реальный и доступный для производства русский проект – его объектом являлся 12-тонный танк, вооруженный трехдюймовым орудием и пулеметом (был предложен ГВТУ обществом «Русский Рено» в конце 1916 г.).
Структурно в составе Русской армии в конце 1917 — начале 1918 гг. должны были появиться еще 12 броневых дивизионов, оснащенные полно-приводными бронемашинами «FWD» и «Джеффри», полугусеничными броневиками (система Кегресса) и танками.
Применялись русской армией и бронепоезда – прежде всего на галицийском фронте. В конце 1915 г. на Русском фронте действовало 15 бронепоездов — 8 на Юго-Западном, 4 на Кавказском, по 1 на Северном и Западном фронтах и 1 в Финляндии (использовался для береговой обороны побережья). Главное в тактике бронепоездов – активность действий как в обороне (усиливая боевые порядки войск), так и в наступлении (совершая рейды вглубь обороны противника). Например, бронепоезд 2-го Сибирского железнодорожного батальона № 3 в начале июня 1915 г. совершил дерзкий набег на позиции австрийцев под г. Красный — прорвав оборону противника, нанес артиллерийский удар по его тылам.
Могла ли главная бронесила русской армии Первой мировой – бронеавтомобили — оказывать серьезное тактическое или (тем более) оперативное влияние на ход боевых действий?
Тактические свойства бронеавтомобиля, особенно значимые в период маневренной войны на широком фронте, определили его роль как инструмента, предназначенного наносить противнику неожиданные и сильные удары. Слабыми сторонами бронеавтомобиля являлись зависимость от качественных грунтовых дорог и ограниченный радиус действия.
Каждый броневик вместе с приданными ему грузовым и легковым автомобилем, а также мотоциклом, составляли отделение. Как мы отмечали, три боевых броневых и одно запасное (как правило) отделения объединялись в броневые (автопулеметные) взвода. Последние придавали армейским корпусам. Броневые взвода могли объединяться в дивизионы или роты.
Штат взвода – 4 офицера, 60-65 нижних чинов (шоферов, пулеметчиков, артиллеристов и механиков), которые обслуживали три бронемашины и вспомогательный полуброневой грузовик. Как отмечал очевидец, солдатский состав был отличный — особенно пулеметчики и артиллеристы, прекрасно знавшие свое дело. Шоферы машин часто были не на высоте — прибегая к различным уловкам, чтобы избежать тягот боевой обстановки. Офицерский состав, преимущественно добровольцы, всегда был на высоте. Новый род оружия пока не имел специальной тактики — все основывалось на здравом смысле командира машины.
Для боевого использования броневой взвод выделял: 1) боевую часть, в которую входили только броневики и мотоциклы для разведки и связи; 2) резерв — легковые автомобили с запасом личного состава и боевых средств и 3) парк (грузовики).
Тактически бронеавтомобили считалось целесообразным применять в основном на дорогах и небольшими группами, т. к. их главное «преимущество – скорость хода».
Бронеавтомобили осуществляли разведку, поддерживали огнем пехотинцев, действовали совместно с кавалеристами, проводили рейды и защищали фланги частей и соединений, применялись для удара во фланг и тыл, захвата рубежей, преследования противника. Бронечасть – это эффективный бронированный мобильный резерв в руках общевойскового командира.
Первое применение русских броневиков состоялось в ходе Лодзинской битвы 29. 10. – 06. 12. 1914 г. Операция началась с попытки неприятеля окружить 2-ю армию, а заканчивалась выходом из окружения самих германцев — ударной группы 9-й армии. Операция стала единственным в мировую войну удачным примером окружения русской армией крупной группировки противника (5 германских дивизий). И хоть в «котле» вражеская группировка оказалась почти уничтожена (потеряв 42000 человек – до 90% состава) — остаткам удалось прорваться из окружения.
Ключевое значение приобрели действия т. н. Ловичского отряда, замкнувшего кольцо вокруг группировки Р. фон Шеффер-Бояделя. Ловичский отряд активно поддерживался 8-ю бронеавтомобилями 1-й Автопулеметной роты, приданной 2 армии.
9-10 ноября 1914 г. 6 пулеметных броневиков прорвались через г. Стрыков, занятый германскими войсками, тогда как 2 пушечных броневика артогнем и маневром поддерживали наступление 3-й Туркестанской стрелковой бригады. Оказавшиеся в тисках 2-х бронегрупп германцы, понеся очень тяжелые потери, были выбиты из города.
20 ноября 1-я Автопулеметная рота встала в засаду на стыке между левым флангом 19-го армейского корпуса и 5-й армией — у Пабианице. И на рассвете 21-го пять русских броневиков уничтожили 2 полка германской пехоты, попытавшиеся приступить к окружению левого фланга 19-го корпуса.
В этих боях проявил себя командир 4-го автопулеметного взвода штабс-капитан Павел Васильевич Гурдов. Прикрывая от обхода германцами фланг 68-го пехотного Углицкого полка, броневики вышли к Ласскому шоссе – обнаружив обходной маневр германцев. Документ рассказывает, как подступила вплотную к шоссе германская пехота — и Гурдов, врезавшись в наступавшие цепи противника, открыл огонь из 4-х пулеметов со 100 — 150 метровой дистанции. Германцы не выдержали кинжального огня, и, прекратив наступление, залегли. Но с такого расстояния пули пробивали броню – экипажи были ранены, а оба броневика выведены из строя. Отстреливаясь из 2-х пулеметов, П. В. Гурдов при помощи раненых пулеметчиков откатил машины к цепям русской пехоты – и затем они были отбуксированы.
П. В. Гурдов был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени, а бойцы его взвода — Георгиевских крестов.
11. П. В. Гурдов.
Вот что писал военный корреспондент о подвиге взвода П. В. Гурдова, приводя интересные подробности: «С самого начала войны австрийцы и, особенно, немцы пугали наши войска своими пулеметами на автомобилях. Идет русская конница, или рассыпалась цепь — вдруг из земляного возвышения выскакивает автомобиль. Летит он прямо в лоб или вдоль фронта и осыпает наши силы дождем пуль. Наша пехота немедленно ложится, начинает пальбу по автомобилю, но его уже и след простыл. А в цепи там и здесь убитые и раненые. … И вот 21 ноября, к югу от Лодзи, по шоссе Пабианицы — Ласк выступили наши бронированные автомобили. 20 ноября было получено известие, что конница немцев выступила на шоссе от Пабианицы на Ласк. Было приказано выступить двум взводам пулеметных автомобилей со скорострельной пушкой, делающей 300 выстрелов в минуту и атаковать эти колонны. Командование было поручено штабс-капитану Гурдову, и отряд немедленно выступил. Наш батальон, сдерживавший наступление неприятеля, должен был отступить под убийственным огнем неприятеля. Как раз в этот момент отряд автомобилей пришел на место боя. На шоссе в виду неприятеля остался один Гурдов со своими двумя бронированными автомобилями. Приходилось держаться до семи утра, когда его обогнали наши. Офицеры с шашками наголо быстро вели своих вперед, крича ему: «Немцы атакуют по шоссе». В глухие удары артиллерийского огня ворвалась трескотня ружей. По обоим шоссе работали их батареи; между ними все заливала свинцом пехота. … Уже много было убитых и раненых. С каждою минутой стремительность немецкого наступления усиливалась. Наши тоже спешно шли в контратаку, торопясь живою силой положить конец этому натиску превосходившего своею численностью врага. — Скорее пулеметы вперед! Гурдов кинулся по шоссе. С одной стороны его был, казавшийся безлюдным, лес, но когда он поравнялся с деревьями, оттуда в упор грянули выстрелы. В чаще засели немецкие стрелки, прикрываясь стволами. Еще ночью они заняли эту закрытую позицию и теперь в полной мере воспользовались ею. Останавливаться и соображать было некогда. Пули ураганом неслись справа точно тысячи молотков стучались в стальные брони автомобилей. Мало этого. Не прошло и нескольких минут, как заметившая их издали батарея бросила очереди за очередями шрапнелей. Било сбоку, поражало сверху, а в упор работали ружья наступающей немецкой пехоты. … Перед автомобилями и в лесу ложились десятки точно подкошенных немцев. Пулеметы, точно железными метлами, сметали их прочь, но на места убитых и раненых являлись другие. Как вдруг один из автомобилей поворачивает назад. — Куда? — кричит своему шоферу Гурдов. — Назад, в деревню. Я ранен шрапнелями три раза. Если останусь, — автомобиль пропадет. Через несколько минут истеку кровью, не хватит силы вести его. Гурдов вернулся. За ним последовал второй, с его фельдфебелем. Гурдов, уже раненый сам в шею, пересел на новый автомобиль, а на место раненого шофера посадил фельдфебеля и приказал ему нагнать его у леса. Опять начался бой пулеметных автомобилей с отовсюду наседающим неприятелем. …Немцы падали и впереди, и в леcy. Гурдов следил только за одним — чтобы обстрел не прекращался ни на минуту. Автомобили блестяще сделали свое дело. Неприятельский огонь стал стихать. … В девятом часу огонь его сталь гаснуть в лесу. Впереди немцы отхлынули. Весь путь их был устлан трупами. Враги едва успевали подхватывать своих раненых… …Встретили командира полка.… — Возьмите по шоссе… Там неприятельские пулеметы. Они нам наносят страшный урон. Гурдов покатил туда. Скорострелка показала себя великолепно. Впереди лесок. В нем засады. Их все уложили. За ними Гурдов видит ложбинку впереди. За нею пулеметы, а по ложбинке перебегают люди, занимая окопы к северу, на Ласк… Гурдов мгновенно сообразил положение дела и сейчас же открыл беспощадный огонь и по ложбине, и по окопам. Прибегает унтер-офицер наблюдательного поста. — Ваши снаряды ложатся отлично. Неприятель частью выбит из ложбинки и окопов. Группируется у кирпичного завода вправо у шоссе. В это время подъехал взвод автомобилей капитана Шулькевича. Он заработал по ложбинке и окопам, а Гурдов — по кирпичному заводу, Опять с наблюдательного поста: — Немцы с завода выбиты… Бегут налево в деревню. … Должно быть, артиллерийский парк, как видно было после. Их пулеметы были сбиты и замолчали… Гурдов начал бить указанную деревню, и вдруг на всю окрестность — оглушительный взрыв… Разнесся далеко-далеко, и вскинулась громадная туча, … загорелась деревня. Неприятель смолк».
12. Командир 2-го пулеметного взвода 1-й Автопулеметной роты штабс-капитан Б. А. Шулькевич.
В этом бою пушечный броневик уничтожил германскую батарею, была разгромлена бригада противника – и русские броневики, парировав охват фланга 19-го армейского корпуса, решили важную оперативную задачу.
Сводка Ставки сообщала подробности знаменательного боя: «В сумерках 20 ноября, направляясь для занятия леса, значительная германская колонна должна была пересечь шоссе Пабианицы-Ласк. В это время в германскую колонну врезались наши бронированные автомобили, вооруженные пулеметами и пушками. Бой наших автомобилей с неприятелем шел преимущественно на расстоянии около 150 шагов. Неприятель понес огромный урон от пулеметов и картечи и совершенно рассеялся. С нашей стороны был ранен командовавший автомобилем штабс-капитан Гурдов и некоторые пулеметчики. Два автомобиля были повреждены, но сохранили возможность передвигаться. Штабс-капитан Гурдов распорядившись об отступлении поврежденных в бою автомобилей, будучи уже ранен, пересел в автомобиль-пушку, сменил раненого наводчика и продолжал лично расстреливать германцев. Затем наши автомобили также внезапно скрылись с места боя, как и появились. В отместку за блестящее дело германская автомобильная батарея 23 ноября дерзко выехала засветло перед фронтом нашей пехотной дивизии, действовавшей в краковском районе, но сейчас же один автомобиль был опрокинут огнем наших полевых батарей; другие автомобили спаслись полным ходом. Также в лодзинском районе нам пришлось встретиться с германским бронированным автомобилем, подъехавшим почти вплотную к нашему окопу, ранившим наших часовых и поспешно отступившим. Наши войска приветствуют прибывшие в армию бронированные автомобили, которые могут существенно облегчить боевую работу войск ночью, в тумане и при других условиях, позволяющих, не опасаться неприятельской артиллерии».
13. Нива. 1915. № 4.
Мы видим, что в Лодзинской битве русские броневики разгромили гарнизон Стрыкова, а под Пабианицами уничтожили 2 полка — решая не только тактические, но и оперативные задачи.
Продолжение следует
LiveInternetLiveInternet
Цитата сообщения Вечерком
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
От паровой телеги до броневика…
К столетию автомобильных войск России, первому этапу становления этого рода войск посвящается.
Танки как тяжёлая бронетехника возникали уже в дни Первой Мировой, и проходили через массу неудобств, недоработок и несовершенство… То ли дело, АВТО! С тех пор как безлошадная повозка распространилась по миру, ненавязчивые потуги применять её в боевых нуждах как правило имели успех и будущее применение.
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ПАРОВОЗЫ
Прародителя автомобиля – паровую повозку впервые изготовил в 1769 году по заказу французского военного ведомства капитан Никола Жозеф Кюньо. Армия в очередной раз выступила в роли двигателя технического прогресса.
В середине XIX века уже в нескольких странах выпускались паровые дорожные локомобили. В России первые опыты с новым средством передвижения прошли на льду Финского залива и Невы зимой 1861–1862 годов. По маршруту Кронштадт–Петербург курсировали два пассажирских поезда по 15 вагонов. Вместо передних колес у 12-тонных локомотивов стояли массивные лыжи. Но ненадежный лед и невозможность летней эксплуатации тяжелых машин принесли убытки, и опыты прекратились.
Российское военное ведомство приобрело два первых тягача в Великобритании в 1876 году. В том же году два тягача поставили отечественные «Мальцовские заводы». Назывались эти машины в те времена паровозами. Всего для Военного министерства за 1876–1877 годы было приобретено 12 локомотивов на сумму 74 973 руб. 38 коп. По высочайшему повелению от 5 апреля 1877 года началось формирование отдельной части, получившей название «Особая команда дорожных паровозов».
Паровозы приняли участие в Русско-турецкой войне – буксировали осадные орудия, перевезли сотни тысяч пудов грузов, в том числе паровые катера, заменяя сразу по 12 пар быков, работали как локомобили на водокачках… И полностью окупили все расходы.
В 1880 году паровозы обеспечивали транспортировку грузов для Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева. Задачу они выполнили, но через год оказались списаны. На этом закончилась история первой автомобильной части Русской армии.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
В 1897 году в маневрах под Белостоком принял участие 5,5-сильный шестиместный автомобиль «Делагэ», принадлежавший, впрочем, Министерству путей сообщения. В 1899 году инженер МПС Абрам Танненбаум опубликовал цикл статей «Военно-самокатный вопрос в нашей армии», в которых предлагал использовать автомобили в качестве машин разведки, связи, для размещения на них различного вооружения и транспортировки грузов.
А также для создания на их базе боевых бронированных машин. Эти предложения нашли поддержку в войсках и штабах, впрочем, слабо выраженную финансово.
Моряки опередили армию. В 1901 году Морское ведомство получило грузовик «Луцкий-Даймлер». Его рекомендовали покрасить в яркий цвет. О маскировке тогда еще никто не помышлял. Грузовик работал на Ижорском заводе, заменяя 10 лошадей на перевозке грузов до Колпино. Так автомобиль пришел сразу на военную службу и в оборонную промышленность.
В Русско-японскую войну 1904–1905 годов в действующей армии насчитывалось от 20 до 30 автомобилей. Например, в Порт-Артуре бегал автомобильчик оригинальной марки «Старлей-Психо». Но первый по-настоящему боевой автомобиль испытали в Русской армии только в 1906 году – блиндированный «Шаррон, Жирардо и Вуа» с пулеметной башней, обкатанный французской армией еще в 1903 году. Но испытания в России как-то увяли, и о броневиках снова вспомнили только в 1914 году.
Настоящая моторизация Русской армии началась с собственного Его Величества гаража. Вскоре эти гаражи появились при каждом дворце – в Санкт-Петербурге, Новом Петергофе, Гатчине и летней резиденции в Ливадии. Были учреждены две Императорские школы шоферов, потому что автомобилей приобреталось довольно много. Уже тогда отечественным самодержцам полюбились «Мерседесы». Автомобилей было столько, что их сдавали в аренду. В частности, фельдъегерской службе, которая первая оценила экономический эффект от замены лошади мотором.
Личный шофер императора – французский гражданин Адольф Кегресс изобрел первый в мире полугусеничный автомобиль. Простой придворный, похоже, не испытывал проблем с внедрением своих идей. В 1914 году Кегресс запатентовал изобретение в России и Франции. Надо отметить, что в 1918–1919 годах на Путиловском заводе было построено 12 полугусеничных броневиков «Остин-Кегресс».
В армии, как заведено, не все приветствовали техническое новшество. Военный министр Владимир Сухомлинов вспоминал: «…Некоторые члены совета высказались в том смысле, что этот «сложный и хрупкий инструмент» для нашей армии неприемлем: армия нуждается в простых повозках на крепких осях!» А генерал Скугаревский требовал, «чтобы во избежание излишнего пользования автомобилями их держали под замком».
К счастью, в армии оказался такой энтузиаст новой техники, как молодой офицер Петр Иванович Секретев. Аристократ из казаков, он родился в 1877 году и вырос в станице Нижне-Чирской 2-го Донского округа.
Окончил кадетский корпус в Новочеркасске и Николаевское инженерное училище. Служил по саперной части в Брест-Литовске, Варшаве, Маньчжурии. В апреле 1908 года в чине штабс-капитана вышел в отставку и фактически экстерном окончил инженерное отделение Киевского политехнического института со званием инженера-технолога. После чего в октябре того же 1908 года был снова принят на военную службу уже в чине капитана в железнодорожный батальон. А в июле 1910 года как технически грамотный, энергичный и прогрессивно мыслящий офицер назначен командиром 1-й Учебной автомобильной роты в Санкт-Петербурге. Кстати, это Секретев придумал существующую до сих пор эмблему автомобильных войск, известную в армии как «бабочка» и «улетел бы, да «колеса» мешают».
Рота проводила исследовательские пробеги, участвуя в различных армейских мероприятиях. Два отряда грузовиков действовали во время похода в Персию в 1911 году, когда там разгорелась гражданская война. Был получен опыт эксплуатации техники в горных зимних условиях, в мороз и метель.
Броневик Накашидзе 1906 г.
Рота была сформирована по высочайшему соизволению от 16 мая (29 мая по новому стилю) 1910 года. К тому времени уже год как существовало Автомобильное отделение в Отделе военных сообщений Главного управления Генерального штаба и было начато формирование целых восьми автомобильных рот. Но до высочайшего соизволения всё это как бы не существовало. Поэтому 29 мая считается Днем военного автомобилиста и датой создания автомобильных войск.
Под названием «рота» возник исследовательский и учебный центр по организации и развитию автомобильного дела во всей Русской армии. Здесь не только готовили офицеров – командиров автомобильных подразделений и унтер-офицеров – инструкторов автодела. Здесь изучали и испытывали новую технику, разрабатывали правила эксплуатации.
ПРОВЕРКА ВОЙНОЙ
Автомобилизация Русской армии опиралась на заграницу, куда уходило немало средств. Первая мировая война показала всю порочность такой политики. Но только в 1916 году было принято запоздалое решение о строительстве нескольких отечественных автозаводов. Но это решение уже ничего не решало и решительно не имело смысла в стремительно разорявшейся и разлагавшейся стране.
В России имелись предприятия, занятые отверточным производством автомобилей из импортных деталей, например, известный Русско-Балтийский вагонный ). Но отечественная промышленность не имела производства материалов, необходимых отрасли. Было предложение купить и целиком перевезти в Россию британский . Как и сто лет спустя, среди капиталистов и чиновников хватало энтузиастов покупки зависимости России от иностранного производителя военной техники. Видать, есть в этом выгода.
К началу Первой мировой войны в Русской армии имелось 711 штатных автомобилей. Из них 259 легковых, 418 грузовиков и 34 специальных. А также 104 мотоцикла. 17 июля 1914 года после четырехлетней волокиты был утвержден Закон «Об автомобильной воинской повинности», определявший порядок мобилизации (реквизиции) частных автомашин с денежной компенсацией.
С началом войны частные авто призвали в армию вместе с водителями. Компенсации сильно занижали, но жалоб было мало. Автомобили должны были соответствовать определенным техническим характеристикам – по мощности, количеству мест, дорожному просвету. Только в Петрограде «забрили» в армию около 1500 автомашин. Армия же выкупила все автомобили, поступавшие из-за рубежа по ранее сделанным заказам.
И здесь возникло такое тяжкое явление, как «разномарочность». Запчастей к десяткам марок авто было просто не найти. Особенно трудно пришлось с «Мерседесами», «Бенцами» и прочей продукцией «вражеских» фирм, запчасти для которых изготавливались в Германии и Австро-Венгрии. Да и размещать технику пришлось под открытым небом – гаражей и даже сараев заранее не припасали. Автомобильная повинность себя не оправдала. Вместо резерва получился полугодовой процесс, отягощенный бюрократизмом и плохой организацией.
Примечательно, что французская армия к войне имела всего 170 автомобилей, но только по мобилизации получила за несколько недель 6000 грузовиков и 1049 автобусов, а вскоре вообще стала механизированной, благодаря развитой промышленности. Британская армия, в которой насчитывалось едва 80 автомобилей, обошлась не слишком массовой мобилизацией. Ей на своем острове этого хватило.
Британский бронегрузовик (1915)
Германия еще с 1908 года проводила политику частичного субсидирования покупки грузовиков частными лицами и предприятиями при условии их безвозмездной передачи в армию в случае войны. Это поощрило к быстрому развитию автомобильной индустрии в стране, а через год после начала войны в армии было уже свыше 10 тыс. грузовиков, 8600 легковых автомобилей и 1700 мотоциклов. Такую же политику проводила Австро-Венгрия. Хоть она и не имела развитой промышленности, но тоже моторизовала свою армию на достаточно высоком уровне.
Бронеавтомобиль Даймлера (Австро-Венгерская Империя)
Большая часть книги отдана Первой мировой войне. Подробно описаны автомобильные формирования Русской армии, материальная часть и боевое применение. Особое внимание уделено бронеавтомобилям. Приведена статистика производства бронированных автомашин в России в 1914–1917 годах на различных предприятиях и в военных мастерских с перечислением марок производителей и типов.
Бронеавтомобиль» Фиат- Ижора». Россия. 1915 г.
Русская армия была одной из самых обеспеченных бронеавтомобилями. Их насчитывались сотни. Некоторые изготовлены прямо во фронтовых мастерских с помощью щитов от трофейных орудий. В германской армии за всю войну насчитывается лишь 40 броневиков, из которых только 17 собственного производства, остальные трофейные.
Бронеавтомобиль «Шкода»
Во время войны Петр Секретев вырос до генеральского чина. Он стоял во главе огромной организации автомобильного хозяйства, охватывающей большое число автомобильных специалистов и техники, школ шоферов, ремонтных и производственных предприятий, а также ряд бюро по покупке, приемке и отправке автомобилей в Россию из Америки, Италии, Англии, Франции и других стран.
«Renault», 1914 поступавший в Россию.
Сразу после Февральской революции Секретев отказался предоставить персональный автомобиль члену Военной комиссии Думы нижнему чину Клименту Ворошилову. Будущий «красный маршал» тут же разоблачил «контрреволюционного генерала», и тот был арестован. Арестовала его команда автошколы во главе с чертежником Маяковским, который попал туда добровольцем еще в 1915 году по протекции Максима Горького. Секретев вышел на волю лишь после Октябрьской революции. А умер в эмиграции в 1935 году.
Гарфорд-Путилов Пушечный бронеавтомобиль
Инициатором и идейным вдохновителем процесса создания бронеавтомобилей вооруженных пушками был генерал-майор Н.М.Филатов, в годы войны работавший в должности начальника Офицерской стрелковой школы. Один из его первых проектов оказался наиболее удачным. За основу был взят 4-тонный двухосный грузовик фирмы Garford Motor Truck Co., специализировавшейся на постройке машин такого класса. “Гарфорд” привлек внимание военных, прежде всего, хорошими характеристиками грузоподъёмности, что позволило “навесить” на него побольше брони и вооружения.
Шасси грузовика было значительно модифицировано. Тактика использования бронемашин того времени сводилась к выдвижению задним ходом к переднему краю позиций противника и последующему отходу назад. Чтобы обеспечить машине достаточную скорость для перемещения в обеих направлениях пришлось установить специальную переводную муфту, управляемую рычагом с места водителя. Таким образом, при реверсе, передачи переднего хода становились задними, и наоборот. На бронемавтомобиле устанавливался карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 30 л.с. Запуск двигателя осуществлялся водителем с помощью пневматической системы.
Внутреннее освещение обеспечивалось лампами, работавшими от аккумулятора, обеспечивавший бортовую сеть током напряжением 12В. В случае выхода из строя электросистемы задействовались обычные керосиновые лампы.
Корпус бронеавтомобиля был оригинальной конструкции и технологически его можно разделить на три секции. В передней части разместили водительский отсек с органами управления. Место шофера и его помощника находилось над двигателем и бензобаками, что было небезопасно для экипажа, но позволяло сократить длину машины. Боевое отделение находилось в средней части: в бортовых спонсонах установили по одному 7,62-мм пулемету “максим” обр.1910 г., а свободное пространство между ними заняли ящиком для 32 орудийных снарядов и оружейного имущества. В задней части корпуса была установлена орудийная башня цилиндрической формы с большим скошенных лобовым листом, где была размещена 76,2-мм противоштурмовая пушка.
Первоначально орудия подобного типа использовались в различных фортификационных сооружениях (в том числе и крепостях), предназначаясь не только для обороны, но и для сопровождениях войск при вылазках. При её создании за основу взяли основные компоненты (ствол, казенная часть) 3-дюймовой горной пушки обр.1909 г., который установили на новый лафет, более легкий, но неразборный. Серийное производство нового орудия началось в 1911 году на Путиловском заводе и продолжалось до середины 1915 года – за это время было собрано 407 экземпляров двух партий.
Для “гарфорда” подходила как нельзя лучше. Обладая хорошими характеристиками при обстреле полевых укреплений она имела небольшую отдачу и откат ствола. Обычно использовались боеприпасы от горной пушки, но с уменьшенным зарядом, так как крепостным орудиям большая дальность не требовалась. Максимальная начальная скорость снаряда, в зависимости от сорта пороха, составляла 274-280 м\с. На “гарфорде” пушка устанавливалась на тумбе, изготовленной из железного листа со сварным стыком. В верхнюю часть тумбы вклепана медная головка, служащая подшипником для штыря, проходящего сквозь тумбу, и опорой для нижнего станка. Штырь служит осью вращения нижнего станка, с которым он неподвижно связан заклепками. Нижней опорой штыря служит бронзовый подшипник, приклепанный к круглому месту, служащему опорой тумбы. Тумба крепится к платформе броневика 12 болтами. Нижний станок отлит из бронзы с удлиненной хоботовой частью коробчатого сечения, на которой установлена бронзовая дуговая направляющая верхнего станка с поворотным механизмом. На верхней стенке станка, несколько выше дуговой направляющей, находится окно для прохода винта подъемного механизма. Передняя стенка головной части нижнего станка имеется плоский прямоугольный фланец, к которому привертывается броневая башня, катающаяся по круговому погону на трех роликах. Кроме пушки, в башне был установлен еще один 7,62-мм пулемет и располагались патронташи для 12 пушечных выстрелов. Общий боезапас составил 44 снаряда и 5000 патронов в 20 лентах.
Все пулеметные амбразуры и смотровые щели закрывались броневыми заслонками. Изнутри боевое отделение, во избежание поражения экипажа вторичными осколками, обшивался войлоком и холстом. Пулеметное отделение могло отгораживаться от шоферского парусиновой шторой, а в случае необходимости и подвесными щитами.
По такому образцу было принято решение забронировать 30 машин, первая из которых покинула цеха Путиловского завода 5 мая 1915 года, а полностью заказ выполнили к октябрю. Сейчас эти бронемашины принято называть “Гарфорд-Путиловец”, но в годы Первой Мировой войны их именовали просто “гарфорд”.
Бронеавтомобили поступали на вооружение автомобильных пулеметных взводов согласно штату №20. Каждое подразделение такого рода состояло из двух бронеавтомобилей “остин” и одной пушечной машины (некоторые имели по три “остина”), не считая вспомогательно-технических грузовиков и мотоциклов. Практически каждому бронеавтомобилю в АПВ присваивали собственное название:
5-й взвод — «Бессмертный», 6-й — «Сибиряк», 12-й — «Святогор», 14-й — «Добрыня»”, 15-й — «Грозный», 16-й — «Забайкалец», 17 — «Колыванец», 18 — «Рокот», 19-й — «Пушкарь», 20-й — «Громобой», 21-й – “Витязь”, 22-й – “Михайловец”, 24-й — «Граф Румянцев», 26-й — «Чудовище», 28-й — «Решительный», 32-й — «Забавный», 34-й — «Дракон», 36-й – “Баян”. Всего “гарфорды” находились на вооружении 30 авто-пулеметных взводов (не указаны 7-11, 13, 23, 30-33 и 35-й), названия остальных машин пока остаются неизвестными.
Не отличаясь хорошими ходовыми характеристиками “гарфорды” пользовались популярностью в войсках, главным образом за счет своего мощного противоштурмового орудия. Ниже приводятся выдержки из рапортов командиров АПВ, воевавших на фронте в 1915 году.
Рапорт командира 15-го пулеметного автомобильного взвода:
“В ночь с 20 на 21 октября вверенный мне взвод под моим руководством принимал участие в усиленной рекогносцировке 408-го полка. Согласно указаниям командира полка орудийный автомобиль “Грозный” и пулеметный “Адский” должны были поддержать атаку полка в момент подхода к заграждению противника. Получив по телефону приказание выдвинуть автомобили, мною были даны указания командиру “Грозного” подпоручику Тер-Акопову и командиру “Адского” подпоручику Исаеву относительно боевых действий. “Грозный” и “Адский” были выдвинуты одновременно. Подъехав к окопам противника, “Грозный” открыл огонь, открыть же пулеметный огонь не представлялось возможным ввиду возможного поражения наших войск.
Во время боя “Грозный” и “Адский” находились под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. По окончании рекогносцировки свои войска начали отходить за р. Путиловку, “Грозному” же мною было приказано орудийным огнем прикрыть отход наших войск и противодействовать переходу противника в контрнаступление. Считаю действия чинов взвода достойными награждения.»
Гвардии капитан Платковский”.
Рапорт командира пушечного отделения 20-го взвода:
«Громобою» пришлось пройти около 70 верст, причём он шёл молодцом, беря крутые подъёмы шутя, например у д. Подгорица. Этот подъём в два раза сильнее Пулковского.
Поручик Краснопольский».
Рапорт командира 19-го взвода:
«С занятием д. Теофиполки прибыл на западную окраину автомобиль «Пушкарь» под командой штабс-капитана Шульца и поручика Плешкова. «Пушкарь» обстрелял наблюдательный артиллерийский пункт противника у д. Викторовка, после чего огонь вражеской артиллерии прекратился. Заметив колонну конницы с конной батареей, двигающуюся на юг, «Пушкарь» открыл по ней огонь, после чего свернула назад и на карьере ушла… Следующим огнём «Пушкаря» был разогнан окапывающийся противник на гребне северо-западнее Викторовки.
Рапорт командира 13-го взвода:
«Пушка в броневых частях необходима. Существующая 3-дм пушка по своим баллистическим качествам незаменима. Несмотря на большую обузу, которую представляет «Гарфорд», благодаря его малой мощности и тихоходности, по сравнению с остальной боевой частью взвода, приходится, отдавая предпочтение тактической стороне вопроса, придти к заключению о необходимости продолжать выдавать во взводы бронеавтомобили «Гарфорд» при непременном условии постановки заднего рулевого управления.
Капитан Цветковский”.
Как видно из этих донесений, бронеавтомобили “гарфорд” показали высокую боевую эффективность, но вместе с тем было выявлено несколько серьёзных недостатков. Помимо невысокой проходимости по пересеченной местности движение задним ходом в боевых условиях оказалось очень затруднительным. Водителю было нелегко вести машину, ориентируясь только с помощью боковых зеркал установленных на корпусе. Отсюда появилось требование оснастить “гарфорды” задним постом управления.
Работа в этом направлении началась осенью 1915 года, причем гораздо быстрее сориентировались полевые ремонтные мастерские, которые своими силами провели модернизацию четырех машин. Тем временем на Путиловском заводе, по распоряжению Комиссии по броневым автомобилям при ГВТУ, началось изготовление рабочих чертежей и комплектов для оборудования задних постов управления. Уже в январе 1916 года первый из доработанных бронеавтомобилей поступил на испытания, по результатам которых КБА составила акт следующего содержания: «Задний шофёр сидит у руля боком, прижимая глаз к щели в задней стенке броневого корпуса автомобиля, таким образом при малой щели получается хороший обзор местности. Руль сделан съёмным, для шофёра должно быть устроено особое кресло, которое пока заводом не выполнено. Для передачи команд, изменения скорости, действия на конус (сцепление), тормоз и акселератор от заднего шофёра к переднему имеется переговорная трубка с рупором. Автомобиль прошёл задним ходом вокруг палисадника Михайловской площади… Рассмотреть вопрос о заказе 30 задних рулевых управлений для всех автомобилей имеющихся в Действующей армии, несмотря на то, что у 4-х автомобилей системы «Гарфорд» уже устроены задние управления своими взводами. Задние управления по изготовлению Путиловским заводом будут посланы в Действующую армию вместе с инструкторами Запасной бронероты, которые установят их на месте и обучат личный состав.»
Позднее, в августе 1916 года, командиры АПВ так отзывались о “гарфордах”:
“1. 3-дм пушка отличная;
2. граната и шрапнель отличная;
3. необходимо облегчить систему (до 400 пудов);
4. необходимо иметь сильный мотор (более 40 л.с.);
5. необходимо дать скорость до 40 верст;
6. необходимо мотор сделать легко доступным для исправления и осмотра.
В боях бывают необходимы граната и шрапнель, так как в каждом бою бывает комбинированная стрельба. Участвовавшие в боях “гарфорды” все изранены (попадания пуль, разрывных пуль и осколков), но пробоин нет. Бывали случаи в боях, что “гарфорды” подъезжали на 200 и менее шагов. Пулеметный огонь с “гарфорда” бывает в каждый его выезд”.
Немного ранее, 2 сентября 1915 года, Путиловский завод получил заказ на изготовление ещё 18 бронемашин, предназначенных для Морского ведомства. От армейских “гарфордов” они имели несколько больших отличий.
Вместо стандартной базы использовалось удлиненное шасси 5-тонного грузовика, хотя конструкция корпуса осталась без изменений. Бронезащиту корпуса довели до 7-9 мм, башни – до 8-13 мм. Вооружение осталось прежним, но боезапас увеличили до 60 снарядов и 9000 патронов. Полная боевая масса морского варианта бронеавтомобиля составила около 11 тонн.
Заказ был выполнен к декабрю 1916 года, после чего большинство собранных машин передали в распоряжение Броневого артиллерийского дивизиона сухопутного фронта Морской крепости Петра Великого, которые приняли активное участие в боях под Ревелем на завершающем этапе Первой Мировой войны. На Северном фронте “гарфорды” понесли тяжелые потери. Например, приданные 1-му Сибирскому стрелковому корпусу машины “Ревелецъ” и “Непобедимый” вплоть до конца 1917 года поддерживали оборонявшиеся у мысов Олай, Ролбум, Боренберг и Раденпрайс 11-й и 77-стрелоквые полки. Впоследствии, из-за развала армии, оба бронеавтомобиля пришлось бросить, причем “Непобедимый” достался немцам в практически целом состоянии и после ремонта был вновь введен в строй. Что касается остальных машин, то с лета 1917 года они стали отзываться с фронта и впоследствии приняли участие в Гражданской войне. Общие безвозвратные потери “гарфордов” к этому времени оцениваются в 7 машин.
После революции бронеавтомобили были растащены противоборствующими сторонами, однако большая их часть осталась в руках большевиков. Одним из первых фактов использования “гарфордов” против новой власти можно считать Ярославское восстание, начавшееся в июле 1918 года. Несмотря на небольшие силы добровольцам и отрядам местной милиции удалось в течении нескольких дней полностью очистить город от большевиков, а 6 июля к ним присоединился бронедивизион поручика Супонина, включавший 25 офицеров, несколько пулеметов и два “гарфорда”. Несмотря на первоначальный успех восстания оно не было поддержано в достаточной мере Белыми армиями, действовавшими в центральной части России. К 12 июля положение восставших сильно ухудшилось – Ярославль постоянно обстреливала артиллерия и бронепоезда “красных”, бомбили с самолетов. В эти дни “гарфорды” использовали в качестве подвижных огневых точек, но из-за недостатка боеприпасов стреляли они редко. После захвата города судьба этих машин не ясна – вероятно, они были захвачены частями РККА.
А в современном мире наша редакция рекомендует займы в Ярославле: https://yaroslavl.jsprav.ru/loans/microloans/.
Впоследствии “гарфорды” участвовали практически во всех крупных операциях Гражданской войны с обеих сторон. В конечном итоге из 38 построенных бронеавтомобилей в руках РККА оказалось не менее 30. По состоянию на декабрь 1921 года их число сократилось до 26 (15 на ходу и 11 в ремонте), а в 1923 году, в связи с большим износом ходовой части и полным отсутствием запасных частей, было принято решение поставить машины на железнодорожный ход, превратив их в бронедрезины. Это задание поручили Брянскому машиностроительному заводу, но сколько “гарфордов” удалось переоборудовать таким образом пока не ясно.
Окончательно судьба “гарфордов” решилась в 1931 года, когда решением комиссии АБТУ бронемашины устаревших типов надлежало разбронировать. Сейчас довольно часто можно встретить информацию о “гарфордах” захваченных летом 1941 года немецкими войсками. Утверждается, что есть трофейные фотографии, на которых запечатлены трофейные машины, причем как целые, так и подбитые. Однако там не указывается, где были сделаны эти снимки, да и сами фотографии тоже не показываются.
Возможно, здесь имеет место ошибка. В 1917-1918 гг. по меньшей мере пять “гарфордов” стали немецкими трофеями и были отправлены в тыл для ремонта. Чаще всего встречаются фото брошенного русскими войсками “Непобедимого” морской модификации – так как дата не указана можно было сделать неверный вывод о том, что машина была использована в период Второй Мировой войны. Во время революционных событий в Германии 1918-1921 гг. три “гарфорда” дивизии “Kokampf”, перевооруженные немецкими пулеметами вместо пушек, приняли участие в подавлении коммунистических мятежей в крупных немецких городах – например, весной 1919 года их можно было встретить в Берлине. После принятия на вооружение бронемашин собственного производства немецкая армия отправила “гарфорды” на склады с последующей утилизацией.
Другой армией, активно эксплуатировавшей пушечные бронеавтомобили в этот период, стала Польша. Развал Российской Империи и последовавшие за этим бои с частями РККА позволили захватить полякам много военного имущества русской армии, в том числе и три “гарфорда”.
Первый из них был захвачен в феврале 1919 года в районе Владимир-Волынский – Ковель и переименован в “Dziadek” (“Дед”). Видимо, счастье поляков было настолько велико, что почти сразу они сформировали Pluton Pancerny «Dziadek» (Броневой Взвод “Дед”) основной ударной силой которого и стали именно трофейные “гарфорды”. Наибольший успех на его долю выпал 21 марта 1920 года, когда при отражении наступления 58-й стрелковой дивизии под Житомиром расчету орудия удалось подбить полугусеничный бронеавтомобиль “Остин-Кегресс”. Однако уже 26 марта по Косторышевым “гарфорд” был сам подбит артиллерией и недолго вышел из строя. По всей видимости этот бронеавтомобиль участвовал 26 апреля 1920 года в “охоте” за “остином” РККА, который ворвался в Житомир и в одиночку вёл бой против численно превосходящего противника.
Второй бронеавтомобиль был захвачен примерно в это же время и получил название «Zagloba», также войдя в состав Броневого Взвода. Третья машина (“Уралец” морской модификации, позднее переименованная в “General Szeptycki”) стала трофеем после боя на трассе Бобруйск-Могилев у н\п Столопище. По польским данным, во время атаки пехоты им удалось уничтожить бронеавтомобили “Фиат” и “Ланчестер”, ещё одна машина получила повреждения, а “гарфорд” был захвачен после того, как съехал в овраг и не смог выбраться самостоятельно. Ценный трофей был отбуксирован в Бобруйск, где его отремонтировали и позднее передали в состав WPSP (Wielkopolski pluton samochodow pancernych). Через некоторое время его послали в Варшаву, где “General Szeptycki” числился за 3-м бронеавтомобильным дивизионом, а в 1921 году бронеавтомобиль попал в Гродно. Согласно спискам 1925 года все три машины отправили в Краков, где они вошли в состав 5-го бронеавтомобильного дивизиона. Предположительно “гарфорды” сняли с вооружения польской армии в 1927 году, а окончательно разобрали в начале 1930-х гг.
Интересно сложилась судьба «гарфордов» в Латвии. Каким образом эти бронеавтомобили попали в руки латышей пока не совсем ясно — по наиболее достоверным сведениям «гарфорды» (по крайней мере — один) были захвачены у РККА во время боёв в ноябре-декабре 1918 года, когда после объявления независимости «красные» попытались установить в Латвии советскую власть. На начальном этапе латышам помогали немцы, с помощью которых союзники надеялись отбросить большевиков от балтийских границ. Поначалу борьба проходила с переменным успехом, но в июне 1919 года частям ландвера и немецким добровольцам удалось очистить Латвию от «красных» и выйти на территорию Эстонии. Это спровоцировало новый конфликт, в ходе которого латышские и эстонские армейские подразделения разгромили в районе г.Цесис войска ландвера под командованием майора Флетчера. Однако, не прошло и трех месяцев, как на территорию Латвии вторглась Западная армия Бермонта-Авалова, сформированная в Германии из немецких добровольцев и русских военнопленных, и по сути состоявшая из кадрового офицерского состава. Уже 9 октября 1919 года немецкая «Железная дивизия» успешно развила наступление вглубь страны, выйдя на шоссе Митава — Рига. Здесь немецкие части столкнулись с латышским «гарфордом» («Lacplesis»), который пытался орудийно-пушечным огнем прикрыть отход своей пехоты. Используя медленный ход машины один из немецких офицеров-баварцев быстрым прыжком забрался на него и несколькими выстрелами из пистолета убил водителя и командира. Потеряв управление бронеавтомобиль скатился в канаву, после чего остальной экипаж сдался в плен. Трофейный «гарфорд» был сразу же включен в состав фрайкора и участвовал в боях против бывших хозяев в районе Риги. Впрочем, на этом моменте данные расходятся. По одним сведениям бронеавтомобиль был отправлен в Германию, где использовался против «спартаковцев» и впоследствии разобран на металл. Согласно другим данным (подкрепленным фотографиями) все бронемашины фрайкора, включая бывший «Lacplesis», в ноябре 1919 года достались латышам, при этом «гарфорд» некоторое время продолжал носить немецкие обозначения и затем был переименован в «Kurzemnieks». Таким образом латвийская армия могла располагать только одним «гарфордом», который в течении 1919 года сменил три названия. Впоследствии этот бронеавтомобиль активно эксплуатировался в Латвии до начала 1930-х гг., после чего «Kurzemnieks» отправлен на временное хранение. После присоединения Латвии к СССР его обнаружила советская военная комиссия, но вряд ли сильно изношеный «гарфорд» использовался в боях 1941 года.
Источники: М.Барятинский, М.Коломиец «Бронеавтомобили русской армии 1906-1917», Москва, Техника-Молодежи, 2000 J.Magnuski «Samochody Pancerne Wojska Polskiego 1918 — 1939» Сайт Великой Войны 1914 — 1917 гг. РККА: Танки в Прибалтике Международный военный форум: БТТ Балтийских государств
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БРОНЕАВТОМОБИЛЯ Фиат “Соколъ” обра.1918 г.
| БОЕВАЯ МАССА | 8600 кг (армейский) 11000 кг (морской) |
| ЭКИПАЖ, чел. | 8-9 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина, мм | 5700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2800 |
| Клиренс, мм | ? |
| ВООРУЖЕНИЕ | одна 76,2-мм противоштурмовая пушка обр.1910 г. и три 7,62-мм пулемета «максим» обр.1910 г. |
| БОЕКОМПЛЕКТ | армейский вариант: 44 снаряда и 5000 патронов; морской вариант: 60 снарядов и 9000 патронов |
| ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ | пулеметный прицел |
| БРОНИРОВАНИЕ | армейский вариант: лоб корпуса — 6,5 мм борт корпуса — 6,5 мм корма корпуса — 6,5 мм башня — ? крыша — 4 мм морской вариант: лоб корпуса — 7-9 мм борт корпуса — 7-9 мм корма корпуса — 7-9 мм башня — 9-13 мм крыша — ? |
| ДВИГАТЕЛЬ | карбюраторный, 4-цилиндровый, воздушного охлаждения, мощностью 30 л.с. |
| ТРАНСМИССИЯ | механического типа |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | колесная формула 4х2: передние колеса одинарные, задние колеса сдвоенные, подвеска на листовых рессорах |
| СКОРОСТЬ | 18-20 км\ч |
| ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ | 120 км |
| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ | |
| Угол подъёма, град. | ? |
| Высота стенки, м | ? |
| Глубина брода, м | ? |
| Ширина рва, м | ? |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | — |