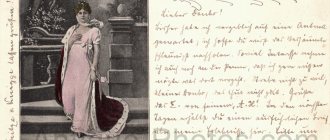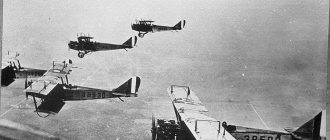Сикорский, человек и вертолет
Игорь Иванович Сикорский во второй своей – «американской» – жизни полюбил альпинизм. Особенно полюбил он восхождения на вулканы.
Тут бы самое время порассуждать о том, что увлечение это напоминало ему собственную судьбу: вверх, вниз, снова вверх, к пропасти, которая вот-вот, того и гляди, изрыгнет огонь… Сам он считает, что первую большую ошибку в своей жизни совершил, поддавшись уговорам отца и отправившись учиться в морской кадетский корпус, вслед за своим старшим братом. Отчего-то тогда это решение болезненному мальчику из сухопутного Киева, любившему всяческие механизмы, показалось правильным. Собственно, все в жизни ошибаются, но важны не сами ошибки, а умение понимать их и на них реагировать.
Сикорский отреагировал через три года: он ушел из кадетского корпуса с вполне оформившейся целью – хотел стать инженером. Что уже о многом в характере нашего героя говорит – ведь подавляющее большинство людей, совершив подобную ошибку (в учебе, профессии или личной жизни), так и живут всю жизнь с этим, проклиная свою несчастную судьбу и гадкую изменчивую фортуну…
Самолет БиС-1 (Былинкин и Сикорский) — первая разработка Игоря Сикорского, с соавтором.
С учебой сладилось не сразу – в России в тот год студентам было не особо до учебы, бушевала реакция 1907 года, и отец Игоря решил, что младшему его сыну стоит пока поучиться в Париже. А в Париже – о счастье! – он попадает в школу Дювигнау де Ланно, где чуть ли не все окружающие буквально болели авиацией и грезили о полетах. Собственно, и наш герой легко и с большим удовольствием «заразился» этой страстью, сблизившись с одним из самый первых (и удачливых) авиастроителей Европы – французом Фарбером, после общения с которым у Сикорского – гора конспектов.
Через полгода он возвращается в Киев, поступает в политехнический институт, где ему снова везет с учителями – тут и ученик Жуковского Артемьев, и знаменитый математик Делоне – Сикорский становится членом созданного ими кружка воздухоплавания.
Звездой кружка был в ту пору Федор Былинкин, прославившийся тем, что создал точную копию самолета братьев Райт: она была прекрасна, вот только не летала. Что отнюдь не умаляло авторитета Былинкина в глазах его сотоварищей.
В 1908 году Игорь вместе с отцом едет в Германию, а вся Германия только и говорит о блестящих братьях Райт (у них как раз «гастрольное турне» по Европе). Впечатленный Сикорский, переосмысливая прочитанное и увиденное, создает свою первую модель вертолета, прямо на столе в гостиничном номере – увы, машина в воздух не поднимается.
Биплан братьев Райт.
Вернувшись в Киев, он демонстрирует замечательные деловые качества, находя инвестора: его сестра Ольга готова спонсировать разработку вертолета. В итоге его разработка отрывается от земли, но веса человека выдержать не способна, не хватает мощности двигателя.
И Сикорский переключается на аэропланы, большую часть своего времени проводя в упомянутом выше студенческом кружке. Знаний студентам, да и преподавателям, не хватало – да и неоткуда им было взяться, зато энтузиазма было через край.
В 1910 году Былинкин, Сикорский и Василий Иордан, незаменимый мастер на все руки, создают первый свой аэроплан — БИС-1, названный по первым буквам фамилий авторов. Увы, снова не хватает мощности двигателя, и самолет, как и творение Былинкина, остается на земле. Горькое разочарование, но Сикорский умеет работать над ошибками, и второй его самолет, созданный в 1910 году, БИС-2 — летает!
С5а, довольно совершенная для своего времени модель самолета, на котором Сикорский установил ряд мировых рекордов.
Да еще как летает, почти ничем не хуже, чем чудо братьев Райт – он пролетел 600 метров и пробыл в воздухе 42 секунды. Надо сказать, что этому блестящему достижению предшествовала череда падений и поломок, но Сикорский не только остался жив, но и «научил летать» свой самолет.
Диплом летчика он получит только год спустя, не сильно отвлекаясь от создания новых, более совершенных моделей. Его С-5 поражает даже императора, который видит его полет во время маневров и удостаивает конструктора аудиенции. С-5 уже маневрирует на высоте около 500 метров, дальность его полета — 82 км, а скорость — 125 км/час.
Первый полет уже самому Сикорскому кажется далеким прошлым, хотя с его даты проходит немногим больше года… На своем С-6 Сикорский бьет уже мировые рекорды, но сложные конкурсные испытания, стоившие молодому человеку, по его воспоминаниям, невероятных нервов, выигрывает не всегда – узкий тогда мир авиаторов полнится слухами о происках конкурентов, взятках, диверсиях…
Генерал Шидловский за рулем одной из топовых моделей автомобиля «Руссо-Балт».
В 1911 году он знакомится с председателем совета директоров РБВЗ (Русско-Балтийского ремонтного завода, базировавшегося в Риге, но имевшего уже отделение в Санкт-Петербурге) генералом Шидловским, и тот предлагает 23-летнему Сикорскому должность главного инженера авиационного отделения Руссо-Балта.
К тому времени Руссо-Балт в части авиастроения уже приобретает скромный опыт, выпуская по лицензии небольшое количество «Фарманов» и «Ньюпортов». Задумки Шидловского и Сикорского невероятные: они планируют создать многомоторный самолет-гигант с закрытой кабиной. Интенсивная работа 1912-1914 годов завершается выпуском двух моделей: «Русский Витязь» и, более совершенного самолета, принесшего его создателю мировую славу — «Илья Муромец».
В это же время имя Сикорского становится предметом обструкции – нет, Игорь Сикорский – слава и гордость страны, его «Илья Муромец», изумлявший современников (будет выпущено почти 100 его экземпляров) потрясает воображение, но вот история с его папой…
Сикорского часто упрекали в том, что он — всё время в работе и вообще не отдыхает. Это, конечно, не правда. Вот — отдохнул, сделанные им аэросани тому свидетельство. Можно возвращаться к делам.
Про отца нашего героя скромно упоминают, как правило, как про «известного русского врача-психиатра» (что правда: во всяком случае, Иван Сикорский создал несколько клиник для душевнобольных и написал ряд научных работ), но не упоминают о нем, как об активнейшем черносотенце. Вот это второе его «я», прорвалось наружу, когда его вызвали в качестве эксперта в суд по известному «делу Бейлиса», которое Сикорский-старший представил как кровавое ритуальное убийство.
Его «доказательства» были настолько пустыми и так очевидно надуманными, что научный мир в дальнейшем почитал его за жулика. Однако, одно дело – реакция науки, а вот в других слоях населения его «доказательства» упали на совсем иную почву: по всей стране начались массовые еврейские погромы, очевидной причиной и виной которым были именно «эксперт-психиатр» Сикорский.
Игорь Сикорский переживал это, по воспоминаниям современников, крайне болезненно, генералу Шидловскому пришлось даже выступать публично в защиту молодого человека. Определенный шрам в душе Игоря Сикорского, однако, останется: он сочтет справедливое негодование в адрес его отца пристрастными и в дальнейшем всю жизнь будет подчеркивать, что хочет иметь дело только с русскими и православными, хотя вовсе не религиозными и национальными мотивами обусловлена была жесткая критика непрофессионального поведения его отца.
Гигант «Илья Муромец»: об этой конструкции говорили, что она опередила свое время. Это правда, но именно эти идеи своего развития, по разным причинам, тогда так и получили.
Начинается Первая Мировая, самолеты Сикорского доминируют в воздухе, однако особого применения им не находится: вроде бы все понимали, что самолет – эффективное средство для бомбометания, но механизмов для этого, да и самих авиабомб, еще не существовало. Брусилов, один из лучших полководцев той войны, отзывался о самолетах как о совершенно бесполезных железяках, содержать которые дорого, а смысла в них нет никакого. Как правило, летчик выбрасывал из кабины гранату, которая иногда взрывалась, не долетая до земли.
Тем не менее более дальновидные военные понимали перспективы бомбардирования с воздуха, и Руссо-Балт занимался выпуском и разработкой новых идей весьма активно. Началась революция, жизнь на заводе Руссо-Балт угасала, хотя еще и теплилась, но, что называется, тучи сгущались…
В 1919 году Сикорского спасает не русский и не православный: один из рабочих его завода, финн, предупреждает Сикорского, что готовится его арест. Чем обыкновенно в ту пору заканчиваются аресты, Сикорскому известно (его друг и покровитель Шидловский уже схвачен): он бежит через Мурманск в Париж, где пытается найти себе применение.
Париж, 1917 год, русская эмиграция. «Господа все в Париже…». Впрочем, не только господа…
Увы, время выбрано очень неудачное: признанный гений авиастроения попадает в тот временной промежуток, когда война уже закончена и запроса на бомбардировщики уже нет, а гражданской авиации еще не существует, и ещё нет спроса на большие самолеты. Он делает прекрасную разработку во Франции («самолет, способный сбросить бомбу весом в тонну») – но самолет в производство не идет, военные задачи уже не первостепенны. Сикорский, в надежде найти работу, переезжает в Нью-Йорк, но, увы, и здесь дело обстоит ничем не лучше. Его попытки получить работу авиаконструктора у правительства США длятся долго, но не заканчиваются ничем, и Сикорский зарабатывает на жизнь преподаванием математики и астрономии и… есть полное ощущение того, что с авиастроением — всё… Точка в инженерной карьере.
Наверное, для кого-то такой крах и мог бы стать точкой, только не для Сикорского, для которого взлеты и падения — его обычный жизненный цикл.
Нью-Йорк, 20-г.г. прошлого века.
В 1923 году Сикорский создает компанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Средств компания не имеет совсем, приглашенные Сикорским русские эмигранты работают бесплатно, место работы – бывший курятник, довольно шаткий и прохудившийся, детали для первых самолетов покупают на распродажах или (чаще) собирают, в буквальном смысле, по помойкам (один из участников тех событий вспоминает, что многие узлы они помечали как «временные», потому что собраны они были из неподходящего материала), а основные деньги на строительство самолета собирались среди эмиграции по подписке, и это были более чем скромные пожертвования.
В один из дней Сикорскому приходит в голову поговорить с Рахманиновым, знаменитым композитором и пианистом. Он покупает невероятно дорогой билет на концерт (кажется, $20, Рахманинов ценится невероятно высоко) и мечтает, что композитор пожертвует на его дело сотни две… Это было бы чудом и пределом мечтаний!
В итоге они смогли встретиться (что само по себе чудо) и в самом деле — поладили: Сергей Васильевич вложил невероятные 5000 долларов и даже принял титул вице-президента компании (невероятно благотворно с точки зрения рекламы). Дело новорожденного авиаконцерна сразу пошло…
Забегая вперед, скажем, что спустя годы Сикорский рассчитался с Рахманиновым полностью, выплатив и саму сумму, и большие проценты по ней (известно, что Рахманинов таких условий не ставил).
Рахманинов (в центре) и Сикорский (справа) у транспортного самолета S-29.
В 1924 году Сикорский выпускает биплан S-29А (ох, тоже все идет не просто: он падает и едва не превращается в груду мусора при первом же полете, но Сикорский его доводит до ума), который служит ему долго и «кормит», перевозя грузы, всю компанию. Это самолет, отслужив свой век, героически погибает: для съемок сбитого самолета его выкупает Голливуд. 1926 год приносит новые проблемы и беды: специально созданный Сикорским для перелета Нью-Йорк – Париж самолет S-35 попадает в катастрофу, пилот и механик чудом выживают. И снова чудо: выживший пилот (Рене Фонк – в очередной раз выручает не русский и не православный) находит деньги на финансирование нового самолета. Он, в отличии от обрушившихся на Сикорского газетчиков, понимает, насколько хороша эта модель, и понимает, что происшествие, едва не стоившее ему жизни, было случайностью. Увы, Фонк так и не стал первым пилотом, который пересек Атлантику: в 1927 году его опередил Чарльз Линдберг, и сотрудничество Фонка с Сикорским закончилось.
Чарльз Линдберг, ставший невероятно популярным человеком и всемирным героем. Сикорский относился к его успеху философски: да, перебежал дорожку его проекту, но сделал для популяризации авиации, а значит, и работы Сикорского, много больше других.
Однако это подтолкнуло Сикорского к созданию самолетов-амфибий, где в итоге, он необычайно преуспел. В 1928 году он выпускает модель S-38, которую безоговорочно признают лучшей в своем классе. На маленькое предприятие посыпались заказы от министерства обороны США и Pan America, из Канады и Южной Америки, из Европы, более того, несколько самолетов попали в Советский Союз (один из них показан в фильме «Волга-Волга»). И все это – в количествах, которые небольшой завод не в состоянии выполнить. Сикорский строит новый большой завод в Бриджпорте, увеличивает штат, организует совершенно замечательное производство (о нем говорят как об образцовом), но Великая Депрессия ломает все планы.
Заказы тают, заказчики разбегаются, ранее заказанные самолеты не продаются… Казалось бы, снова крах, но, как мы уже видим, Сикорский не только гениальный инженер, он еще и прекрасный управленец – понимая, что иначе сделанное не сохранить, он договаривается о продаже своей компании (она называется в тот момент Sikorsky Aviation) авиакомпании United Aircraft.
Пассажиры занимают места в S-40.
В результате его завод спасен от разорения, да и личное финансовое положение Сикорского становится устойчивым — можно продолжить заниматься любимым делом, средства для этого есть.
Его заказчиком становится Pan America, которой так нравились самолеты Сикорского, он производит все новые и новые модели, которые ставят множество мировых рекордов: по дальности полета, по перемещенному весу, по скорости (его самолеты к тому времени развивают скорость уже более 300 км/час), но мир особенно поражает его S-42 Clipper, созданный в 1934 году, который совершил перелет из Америки в Новую Зеландию. В середине 30-х гг., когда спрос на самолеты наладился и, казалось бы, Сикорский снова станет востребован, разразился скандал с одной из моделей Сикорского и его конкурентами. Историки авиации считают, что United Aircraft повела себя в этой истории странно и даже глупо, как сказали бы сейчас, «тупо слившись». В итоге сам Сикорский оказался на вторых ролях в компании и больше участия в её делах не принимал. Разочарование? Конечно, еще какое! В конце концов, не реализовано столько задумок, столько планов.
Наверное, для подавляющего большинства людей это могло бы стать поводом для грусти и депрессии, но – точно не для Сикорского.
Самолет Сикорского на рекламном постере United Aircraft.
Наоборот, именно с этого и начинается работа, которая, в конце концов, обессмертила имя и без того гениального изобретателя – начинается история вертолетостроения. Собственно, и без вертолета Сикорский обеспечил бы себе имя в истории как великий авиаконструктор, но почивать на лаврах – это вообще не в его характере. Впрочем, похоже, что тема создания устройства, которое он начал собирать на столе висбаденской гостиницы в 1908 году его так никогда и не оставляла, и его вынужденное отстранение от «самолетной темы» благотворно сказалось на этой его задумке: он получил время, а небольшим ресурсом в части человеческой и механической он располагал. Кроме того, какое-то время отсутствовал фактор спешки, который так отравлял всю жизнь Сикорскому ранее. Руководство United Aircraft согласилось «пристроить к делу» своего опального авиаконструктора, дав добро на его новый проект, но не особо рассчитывая на результат. Первая разработка Сикорского, названная VS-300, «училась летать» несколько лет.
Первая модель вертолета Сикорского (за штурвалом изобретатель) отрывается от земли.
Модель отлично летала взад и вбок и никак не хотела двигаться вперед, что вызывало много шуток даже в весьма расположенном к Сикорскому военном ведомстве. Но Сикорский есть Сикорский – всего за год он переделывал свою модель вертолета 18 (!!!) раз: примерно раз в 20 дней, и его вертолет полетел.
Первый геликоптер, вошедший в историю как XR-4 (такое кодовое название имела эта модель, в «гражданском» языке — VS-316) взлетел в середине января 1942 года. Военные испытывали его самостоятельно и остались вполне довольны результатом. Произведено было 130 таких вертолетов, которые во время войны участвовали и в военных, и в спасательных операциях.
Кроме того, довольно большое количество вертолетов (уже следующего поколения) заказали армии Британии и Канады. Но не только армиям был необходим вертолет: следующую модель Сикорского, S-51, приобретают гражданские ведомства, спасатели и почта. В мире авиастроения разработки Сикорского тоже произвели сенсацию, и его успех резко усилили конкуренцию в этом сегменте. Убедившись, что вертолет – дело нужно, важное и возможное, очень многие компании устремляются в этот сегмент.
Франк Пясецкий, человек, которому есть чем гордиться в своей жизни. Соперничество Сикорского и Пясецкого привело к настоящему взрыву идей в вертолетостроении.
Впрочем, единственное свое «поражение» в конкурсах на закупку Сикорский терпит от своего американского соотечественника, авиаконструктора польского происхождения, блестящего Франка Пясецкого (первая модель Сикорского опережает разработку поляка всего на несколько месяцев): в 1946 году армия США выбирает для покупки именно вертолет Пясецкого из-за его лучшей эргономики и компактности. Поражение было тяжелым, даже экономически: упустить подобный заказ – это поставить крест на последующих разработках, которые должны бы были подпитывать доходы от продажи прежних моделей. Это привело к очередному конфликту Сикорского и руководства United Aircraft, но… но поражения всегда только раззадоривали Сикорского, и ему было, чем ответить конкуренту.
Красавец S-56. С некоторыми изменениями работает и по сей день.
Он решительно двинулся в сторону создания мощных вертолетов: его S-55 поднимал тонну веса, а S-56 уже пять тонн – Пясецкий проиграл сегмент тяжелых геликоптеров, спрос на которые так удачно смог предвидеть Сикорский, вслед за ними уступил и средний класс, где царствовала модель S-58. В 1957 году Сикорский вышел на пенсию (оставаясь консультантом в своей компании до конца жизни).
Он вел довольно бурную общественную жизнь, возглавляя разного рода объединения русских в Америке – толстовское и пушкинское общество, поспособствовал строительству православной церкви, увлекся философией и богословием, и даже написал пару книг на эту тему на английском, так как мечтал приобщить к своим делам и мыслям максимальное количество окружавших его людей, но от разработок новых машин и механизмов так никогда и не ушел окончательно.
Без работы Игорь Иванович Сикорский в своей жизни не оставался никогда.
Слава его и по сей день настолько велика, что в массовом сознании (и в не слишком добросовестных изданиях) его имя закрепилось как «изобретатель вертолета», что, конечно, неверно.
Путь от голого и ничем не подкрепленного юношеского энтузиазма до вершин успеха, путь взлетов и падений, славы и отчаяния – всего хлебнул этот человек полной чашей. Этому можно удивляться, а можно посчитать это нормальным и обыкновенным путем для любого созидателя.
Автор: Александр Иванов
Хостинг сервера VPS с быстрыми NVMе-дисками и посуточной оплатой. Загрузка своего ISO.
Союзники были уверены в победе над Германией
Столь высокий статус участников свидетельствовал об исключительной важности конференции, созванной для выработки общего плана военных действий против Четверного союза, а также решения дипломатических вопросов, связанных с будущими изменениями политической карты мира.
Справка
Со стороны России в работе конференции принимали участие министры — иностранных дел, военный, морской, финансов, торговли и промышленности, а также управляющий министерством путей сообщения. Представители армии и флота — генерал-инспектор артиллерии при Верховном Главнокомандующем Великий князь Сергей Михайлович, и.о. (и.д.) начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерал от кавалерии В.И. Гурко, начальник морского штаба при Верховном Главнокомандующем адмирал А.И. Русин, а также члены Государственного Совета — С.Д. Сазонов и А.А. Нератов. Председательствовал министр иностранных дел Покровский, а управление делами конференции было возложено на товарища министра финансов С.А. Шателена.
© РГАКФД. Участники конференции стран Антанты в Петрограде, 1917 г.
Как отмечалось в документах, главы союзных делегаций «единодушно указывали на необходимость установления полного между союзниками единства действий в целях доведения войны до успешного конца и завершения её миром, но не на таких условиях, которым союзники вынуждены были бы подчиниться, а на условиях, которые они сами властно предъявят врагу».
В победе Антанты не было сомнений, хотя для её достижения ещё требовалось приложить немало усилий. В этом смысле уместно провести параллель с Тегеранской конференцией 1943 года, когда поражение Германии стало очевидным, но враг затянул с капитуляцией до мая 1945 года.
Подробное исследование Петроградской конференции займёт, по меньшей мере, несколько монографий, поэтому в статье остановлюсь лишь на одном частном, но, тем не менее, весьма красноречивом моменте.
Первые конструкции
Уже летом 1908 года студент Сикорский приступил к разработке и сооружению своего первого вертолета. Работы велись во дворе отцовской усадьбы и в авиагараже КПИ. Игорь остро ощущает нехватку двигателя необходимой мощности. В январе 1909 года он выезжает в Париж, чтобы ознакомиться там с опытом работы в этой области и приобрести двигатель. Следует отдать должное его отцу: он понимает, что дело, за которое взялся его младший сын, — не временное увлечение, поэтому не только помогает ему деньгами, но и благословляет на дальнейшую работу. Рекомендательное письмо к одному из известнейших в то время авиаторов Фердинанду Ферберу дает ему профессор КПИ, автор конструкций первых отечественных планеров Николай Делоне. Именно Фербер стал первым летным инструктором Сикорского и консультантом в выборе необходимых материалов и оборудования. После трех месяцев пребывания во Франции Игорь Сикорский вернулся домой не только с новыми знаниями и литературой, но главное — с двадцатипятисильным двигателем «Анзани» для своего вертолета.
К сожалению, первый вертолет так и не смог подняться в воздух. Впрочем, его испытания помогли обнаружить много особенностей, на которые нужно обращать внимание при проектировании таких аппаратов. Учтя результаты испытаний и вновь посетив Париж, весной 1910 года Игорь Сикорский создает свой второй вертолет. Но и он не смог взлететь. Дело было не в ошибках и погрешностях разработчика, а в отсутствии двигателя необходимого веса и мощности. Молодой конструктор понимал это и параллельно с вертолетом начал разрабатывать свой первый аэроплан. Вместе со своим товарищем по институту Федором Былинкиным он возглавил коллектив единомышленников. Молодые энтузиасты организовали авиамастерские в двух специально для этого построенных ангарах в КПИ и на Куреневке. Добровольными помощниками авиаконструкторов стали их однокашники — студенты. Для работы наняли и рабочих — жестянщиков, плотников, слесарей. Результатом совместного творчества Былинкина, Сикорского и еще одного политехника Василия Иордана стали самолеты БиС-1 и БиС-2. Среди изделий мастерской Былинкина и Сикорского были и аэросани собственной конструкции, в 1909 года вызвавшие восторг у киевлян на спортивном празднике на печерском ипподроме. Спустя какое-то время Былинкин отошел от активной конструкторской деятельности, мастерские перешли в полное распоряжение И.Сикорского. Именно здесь были построены его машины, которые уже уверенно летали: С-3, С-4, С-5 и рекордсмен С-6.
Сооружению последнего предшествовали первые аэродинамические опыты, которые Сикорский проводил на самодельной установке. Их результаты были учтены при конструировании и изготовлении гондолы для пилота с пассажирами, шасси, бензобаков и радиатора, что вместе с использованием мощного 100-сильного двигателя «Аргус» позволило Сикорскому 29 декабря 1909 года побить мировой рекорд скорости — 111 км/ч. Пилотировал свои аэропланы Сикорский сам. Рекордами была отмечена и следующая разработка молодого конструктора — С-6А.
Опираясь на фундаментальные базовые и глубокие инженерные знания, полученные в КПИ, Игорь Сикорский последовательно разрабатывал собственную теорию построения летательных аппаратов. В ее основу был положен оригинальный способ предварительного обсчета летных качеств будущей машины. Это позволяло конструктору заранее определить в общем все основные качества и характеристики аэроплана — его горизонтальную и вертикальную скорости, время и дальность разбега и тому подобное. Аэропланы, созданные Сикорским в Киеве, подтвердили на практике правильность его подхода, расчетов и графических построений.
В апреле 1912 года самолет С-6А показали на Московской выставке воздухоплавания, где он получил Большую золотую медаль. Российское техническое общество наградило И.Сикорского медалью «за полезный труд в воздухоплавании и за самостоятельную разработку аэроплана собственной системы, давшей замечательные результаты».
Как поднимали в небо первый российский бомбардировщик
Производство силовых установок для «Ильи Муромца» началось в России во время войны. Для того чтобы полностью решить «моторный вопрос», началось создание большого авиамоторного завода в Рыбинске.
В 1916 году руководство нашей страны приняло решение развернуть около Херсона авиационный научно-промышленный комплекс. В нём планировалось построить два серийных завода (двигатели и самолёты) и один опытный завод для реализации новых проектов. Там же должны были начать работу вуз и авиашкола, специальный аэродром для экспериментальных самолётов и лаборатория с аэродинамической трубой, способной исследовать аппараты натуральной величины.
© wikipedia.org
Возле самолёта с учебной 25-пудовой бомбой. В центре — Киреев, Никольский, Сикорский, Панкратьев (с планшетом в руке), Шидловский.
Справка
В 1916 году в Петрограде создавался Русско-Балтийский моторный завод, в Ярославле возводилось сразу два самолётостроительных завода, ещё один — в Таганроге, «Авиаприбор» — в Москве, завод РБВЗ — в Филях. Это далеко не весь перечень предприятий, которые должны были дать продукцию в ближайшем будущем.
Увы, две революции — Февраль и Октябрь — крайне отрицательно отразились на этом успешно продвигавшемся проекте, как, собственно, и на авиастроении в целом.
Хаос в экономике, развал фронта, Гражданская война надолго затормозили развитие российской авиации.
Признание
Недоучившись в институте, 23-х летний Сикорский приезжает в Санкт-Петербург по приглашению «Русско-Балтийского Вагонного Завода» (РБВЗ).
Кроме того, Сикорский получает место главного инженера учреждаемой авиации военно-морского флота. В столице он полностью погружается в авиастроительство.
При его работе в РБВЗ один за другим выходят новые инновационные самолеты: гидросамолеты, учебные модели, бипланы и монопланы.
Самолеты Сикорского участвовали в международных выставках, занимали призовые места и продавались иностранным государствам. Большую поддержку ему оказывал председатель РБВЗ Шилдовский М.В.
Модели С-10 и С-12 стали выпускаться и поставляться на фронт и на флот. Разведчик С-10 занимал основное место в вооружении военного флота на начало Первой Мировой войны.
В период с 1912 по 1914 гг были созданы двухмоторный самолет «Гранд», первый в мире в своем роде; за ним последовала модификация «Русский витязь» – уже четырехмоторный самолет.
Самолет стал праотцом всего тяжелого авиастроения. Сам Николай 2 захотел его осмотреть и забрался в кабину вместе с Сикорским. За заслуги царь наградил молодого авиаконструктора именными часами.
Семья
Семью Сикорских хорошо знали в Киеве. Прежде всего благодаря отцу — Ивану Алексеевичу, выдающемуся психиатру, научные работы которого не утратили своего значения до сих пор. Доктор медицины, член научных обществ нескольких стран, в течение многих лет заведующий кафедрой Киевского университета Святого Владимира, основатель и редактор журнала «Вопросы нервно-психической медицины и психологии», он успевал еще и активно заниматься общественной деятельностью. Принимал участие в духовно-религиозной жизни Киева, поскольку как сын и внук православных священников в свое время окончил духовное училище и семинарию. Талантливый художник Виктор Васнецов увековечил черты Ивана Сикорского в росписях Владимирского собора, выбрав его моделью для образа Святого Иоанна Предтечи.
Игорь Сикорский родился 6 июня (25 мая по н. ст.) 1889 года. Важную роль сыграла в его жизни мать — Мария Стефановна. Она была высокообразованной женщиной, но свою жизнь посвятила семье, в которой, кроме Игоря, было еще четверо детей. Благодаря ей в доме Сикорских царили особый уют и творческая атмосфера, которая так нужна для гармонического развития неординарных личностей. Детские годы будущего авиаконструктора были озарены светом культуры, искусства и глубоких знаний об окружающем мире, которые дала ему семья и которые определили всю его дальнейшую судьбу.
Создание гиганта «Илья Муромец»
Еще в студенческие годы Сикорский заразился идеей создания самолета-гиганта. В те времена подобные рассуждения не принимались всерьез и казались фантастическими.
По прошествии времени, в связи с удачным запуском «Витязя», в конце 1913 года появился 19-ти метровый «Илья Муромец С-22», который приснился ему в детстве.
До 1917 года этот самолет считался самым большим в мире.
Весной 1914 года он был переконструирован (прикреплены поплавки) в гидроплан. Вторая модель самолета совершила прорыв, подняв на высоту 2000 метров десятерых пассажиров и перенеся их по маршруту Санкт-Петербург-Киев и обратно.
В эпоху зарождения авиации, когда активная гонка авиаконструкторов шла по всему миру и рекорды сменялись один за другим, в России «Илье Муромцу» не было равных до 1923.
С 1915 года «Илья Муромец» вышел в серийное производство. В военные годы страна получила свыше 80-ти тяжелых авиалайнеров различной модификации.
Россия — основоположник военно-транспортной авиации
Однако, невзирая на мнение скептиков, Сикорский стал первопроходцем в новой, доселе невиданной сфере. Свой проект он представил Шидловскому и, несмотря на то, что реализация идеи была очень дорогостоящей и сопряжённой с огромными техническими сложностями, Шидловский поддержал работу по созданию аэроплана с беспрецедентной грузоподъёмностью.
Справка
Весной 1913 года машина была готова. Она обладала впечатляющими характеристиками: размах крыла — 27 м, вес — свыше 3 т, четыре двигателя по 100 лошадиных сил каждый. Ни в одной стране мира ещё не делали ничего подобного. Самолёт назвали «Грандом», а спустя некоторое время переименовали в «Русского витязя».
© wikipedia.org
«Русский витязь» был готов в 1913 г.
Испытания аэроплана прошли успешно, и вновь Николай Второй решил встретиться с конструктором. Император поднялся на борт, а потом стал задавать конструктору вопросы, удивившие Сикорского высоким уровнем инженерной компетенции.
Справка
Ещё будучи наследником престола, Николай получил военно-техническое образование. Лучшие профессионалы империи учили будущего самодержца военной тактике, фортификации, геодезии и топографии. Химию преподавал великий Бекетов, военную статистику — генерал Обручев, боевую подготовку войск — генерал Драгомиров, стратегию — генерал Леер, артиллерийские науки — генерал Демьяненков, военное администрирование — генерал Лобко.
Очевидно, что Николай Второй фактически получил диплом военного инженера и его квалификация позволяла ему вести беседу с гениальным конструктором отнюдь не о балах или погоде.
Как обстояло дело за рубежом
Критики российского гения любят подчёркивать, что на отечественном самолёте-великане стояли-де немецкие силовые установки. Однако на этот факт можно посмотреть и по-другому: даже имея соответствующий двигатель, Германия отстала от России в создании тяжёлого бомбардировщика. Заключение содержится в анализе авторства В.И. Гурко: в конце 1916 г. многомоторные немецкие самолёты «были технически очень несовершенны, будучи неповоротливыми», «с малой скоростью и грузоподъёмностью».
Рассуждая о союзниках, приведу цитату из книги Катышева и Михеева «Крылья Сикорского».
«Если говорить о других странах, то не только соединений тяжёлых кораблей, а к началу войны и самолётов, подобных «Муромцу», у них не было. Самый первый «иностранец» из этой когорты был «Капрони» (Ка-32). Он стал поступать в войска только с августа 1915 г.».
…Годный для боевого применения четырёхмоторный бомбардировщик англичанам удалось построить только в 1918 г. Принять участие в боевых действиях он уже не успел. Не успели наладить до конца войны серийное производство тяжёлых бомбардировщиков и французы. Они так и были вынуждены строить по лицензии трёхмоторный «Капрони». Американцы, как и англичане, только в 1918 г. наладили серийное производство четырёхмоторных самолетов.