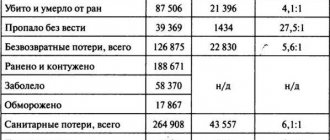По сей день известна и даже популярна песня «Три танкиста». Однако у многих она ассоциируется с Великой Отечественной войной, а танк – с «тридцатьчетвёркой». Хотя в песне говорится про «границу у Амура», да и экипаж Т-34 состоял из четырёх-пяти, а вовсе не трёх танкистов. Да и написана песня ещё в 1938 году. А «машина боевая», о которой поётся – лёгкий колёсно-гусеничный танк БТ-7.
Представитель семейства бронетехники, который был, вероятно, лучшим советским танком довоенного периода, и одним из лучших в своём классе вообще. «Бэтэшки» воевали ещё в 1945 году, «пережив» некоторые более современные машины.
История создания
В 1930 году в США прибыл начальник управления механизации и моторизации Красной Армии Иннокентий Халепский. Целью его загранкомандировок было изучение образцов зарубежной военной техники, а, если удастся – то и закупка для дальнейшего изучения в СССР. В Америке Халепский заинтересовался танком М1931 – инициативной разработкой конструктора Джона Уолтера Кристи. Одной из особенностей этой машины был колёсно-гусеничный движитель.
В то время ресурс гусениц был невелик, а танковых тягачей ещё не существовало, что, вкупе с разрушительным воздействием гусениц на дорожное покрытие, затрудняло переброску танков. Кристи вышел из этого положения, использовав в качестве катков обрезиненные колёса, передняя пара которых могла поворачиваться. Таким образом, танк мог ездить по дорогам на колёсах, при этом демонстрируя рекордные для своего времени скоростные качества.
В конце года, два М1931 (правда, без вооружения и башен) отправили в СССР.
Техника произвела хорошее впечатление, и машину приняли на вооружение под названием БТ-2 (быстроходный танк). Нашлась и ниша для применения БТ – он должен был прикрывать от вражеской бронетехники «пехотные» Т-26.
Основные недостатки БТ-2, выявленные в полевых условиях
- Ненадежность двигателя и высокая пожароопасность.
- Плохая заводская сборка.
- Низкое качество стали, применяемой для изготовления траков, приводило к их регулярному разрушению. При этом запасные траки были крайне дефицитными. Так, за первое полугодие 1933 года в СССР было выпущено 80 (восемьдесят) запасных траков для гусеничных цепей БТ.
- Низкое качество резины приводило к случаям раннего разрушения бандажей на опорных катках.
- Плохая обитаемость машины. К общей тесноте добавлялись невыносимая жара летом и холод зимой.
Производство
Выпускать БТ-2 поручили Харьковскому Паровозостроительному Заводу. Производство должно было начаться в конце 1931 года, но большие трудности – начиная с нехватки кадров и заканчивая отсутствием двигателей (моторы М-5, которыми должен был оснащаться БТ-2, успели снять с производства) привели к тому, что фактически танки начали собирать только с середины 1932 года.
А в 1933 году БТ-2 сняли с производства, заменив его лёгким танком БТ-5 –с новой башней и усиленным вооружением (проект БТ-4 со сварным корпусом в серию не пошёл). Эта модификация тоже производилась недолго – в 1935 году начался выпуск наиболее совершенного представителя серии – БТ-7. Он получил новый корпус, более мощный двигатель и топливные баки большей ёмкости. Этот танк производили до 1940 года, причём с 1939 года выпускалась модификация БТ-7М с дизельным двигателем.
Были попытки усилить защиту БТ-7 – опытный образец получил название БТ-СВ. Опытный танк БТ-20, созданный на основе опыта применения БТ-7, стал прямым предком Т-34.
Отличия танка Кристи M.1931 от БТ-2
Сверху M.1931, снизу БТ-2
- Цепная передача, соединяющая ведущее колесо гусеничного хода с задним опорным катком (выступающим в роле ведущего при колесном ходе), заменена на коробчатую (т.н. «Гитара»), что увеличило надежность.
- Заново сконструированная башня.
- Нос танка приобрел форму усеченной пирамиды (вместо остроконечной пирамиды у M.1931). Появились буксировочные крючья.
- Изменен люк посадки механика-водителя.
- С 1933 года на БТ-2 начали устанавливаться облегченные штампованные катки.
Конструкция
Танки БТ имели компоновку, впоследствии ставшую классической – с моторно-трансмиссионным отделением в корме. Корпус БТ-2 и БТ-5 – клёпаный, у БТ-7 его заменили на сварной. Толщина листов брони составляла 13мм, у «седьмого» её увеличили до 15мм, а в верхней части лба корпуса – до 20мм. Характерной деталью внешнего облика «бэтэшек» стал пирамидообразный нос, необходимый для обеспечения передним колёсам возможности поворота.
Корпус имел внутренние стенки из простой, не броневой стали, толщиной 4мм.
Башня БТ-2 – клёпаная из брони толщиной 13мм, одноместная, с ручным приводом. На БТ-5 появилась двухместная сварная башня с броней такой же толщины, у БТ-7 толщина увеличилась до 15мм. В моторном отсеке БТ-2 находился авиационный 12-цилиндровый мотор М-5 мощностью 400 л.с. Из-за нехватки двигателей на «бэтэшки» иногда ставили купленные в США моторы «Либерти» L-12, либо выработавшие ресурс М-5, снятые с самолётов. Коробка передач была четырёхскоростная.
На БТ-5 силовая установка осталась прежней, а вот БТ-7 получил мотор М-17 с более высокими характеристиками. Коробку передач в ходе производства ради упрощения заменили на трёхскоростную. Наконец, БТ-7М стал одним из первых танков, оснащенных легендарным дизелем В-2.
Подвеска «бэтэшек» выполнялась по схеме, разработанной Дж.У. Кристи. Катки-колёса имели индивидуальное пружинное подрессоривание, поддерживающие верхнюю ветвь гусеницы малые катки отсутствовали. При передвижении без гусениц крутящий момент от двигателя передавался на задние колёса с помощью редукторов-«гитар», передние колёса поворачивались с помощью руля. Танки БТ-2 средств связи не имели, БТ-5 и БТ-7 получили танковое переговорное устройство и радиостанцию 71-ТК.
Ходовая часть БТ-2
Ходовая часть БТ-2
- Ведущие колеса – задние, диаметром 640мм.
- Опорные катки – 4 с каждого борта, диаметром 815 мм.
- Два направляющих катка-ленивца, используемые для натяжения гусеничной цепи.
- Опорные катки и катки-ленивцы были обрезинены.
Танк БТ-2 имел два типа движителя – гусеничный и колесный. Для перехода с гусеничного на колесный ход необходимо было снять гусеничные цепи, закрепить их на надгусеничных полках и установить блокировочные кольца на ступицы задних опорных катков (4-ю пару). Вращение передавалось через редуктор (гитару) с ведущих задних колес. Для управления на гусеничном ходу использовались рычаги, на колесном ходу — руль.
Каждая гусеничная цепь состояла из 46 траков (23 плоских трака и 23 трака с гребнем). Ширина трака — 260мм.
Прыжок БТ-2
Процесс перехода с гусеничного на колесный ход занимал чуть более получаса.
Максимальная скорость на гусеничном ходу составляла 52 км/ч, на колесном – 72 км/ч. Оптимальным показателям скорости для БТ-2 было 25-30 км/ч как на гусеничном, так и на колесном ходу. Такой темп позволял максимально долго сберечь низкокачественные траки и шины.
Вооружение
Стандартным вооружением БТ-2 считалась пушка Б-3 калибра 37мм, созданная на основе немецкой противотанковой пушки PaK 35. Пулемёт ДТ не был спарен с пушкой, а устанавливался рядом с ней в шаровой установке. Для наведения пушки на цель использовался оптический прицел. Часть танков выпустили без пулемёта, а некоторые, из-за нехватки орудий, оснащались спаренными пулемётными установками.
Начиная с БТ-5, машины вооружались 45 мм пушкой 20К и спаренным с ней пулемётом ДТ.
Телескопический прицел дополнили панорамным перископом. На некоторых БТ-7 также устанавливались пулемёты ДТ в корме башни и зенитный на башенной крыше. Выпущенные в небольшом количестве «артиллерийские» БТ-7А оснащались пушкой КТ калибра 76мм (такая же стояла на танках Т-28 и Т-35).
Мифы и заблуждения о БТ-2
Сверху фотомонтаж БТ-4, снизу исходное фото БТ-2
- В некоторых источниках можно встретить информацию, что прообразом для БТ-2 стали модели Кристи M.1940. Это не совсем правильно. Уолтер Кристи возлагал большие надежды на разработанную в 1928 году модель танка М.1928. Он называл прототип «Танк десятилетия» и присвоил ему соответствующее громкое неофициальное название «Model 1940». Однако, прототип «Танка Десятилетия» подвергся сильной критике со стороны американских военных и не пошел в серийное производство. К 1931 году Кристи модернизировал М.1928 «Model 1940». Модернизированная модель получила индекс М.1931. Именно на основе М.1931 стали собираться БТ-2. Танк Кристи с официальным названием М.1940 увидел свет только в 1937 году.
- Два М.1931 Кристи попали в Советский союз легально, с разрешения Госдепартамента США, а не под видом тракторов в обстановке секретности.
- На БТ-2 никогда не устанавливались две башни. Часто встречающийся на просторах сети материал о БТ-4 – машине на базе БТ-2 с двумя башнями есть не более чем вымысел. На ХПЗ реально существовали планы по производству машины с индексом БТ-4, однако ее единственным отличием от БТ-2 был клёпано-сварной корпус (на БТ-2 корпус был клёпаный), упрощенные надгусеничные полки и изменённый буксировочный зацеп. Фотографии двухбашенного БТ — качественный, но монтаж.
- Экипаж серийных БТ-2 состоял только из двух человек. Никогда в БТ-2 не находился третий член экипажа.
- Никогда на БТ-2 не устанавливалась радиостанция.
Боевое применение
Первыми БТ, вступившими в бой, стали БТ-5, которые Советский Союз поставлял испанским республиканцам. В Испании БТ-5 проявили себя неплохо, показав превосходство над лёгкими немецкими танками, которыми были вооружены франкисты. Однако переломить ход войны в пользу республиканцев не смогли ни БТ-5, ни их советские экипажи.
БТ-7 впервые поучаствовал в боях у озера Хасан, а в 1939 и БТ-5 и БТ-7 покрыли себя славой в боях на Халхин-Голе. Там скорость и маневренность «бэтэшек» показали себя с лучшей стороны, но выявились (или подтвердились) недостатки – пожароопасность бензинового двигателя, слабость противопульного бронирования, сложность в управлении.
Следующая операция, в которой участвовали все основные модификации БТ (даже ранние БТ-2), была далеко не такой славной – ей стал так называемый «Освободительный поход в Польшу» — фактически аннексия восточной части Польши согласно пакту Молотова-Рибентропа. Не успев вернуться из Польши, БТ отправились на финский фронт. При этом в «зимней войне» почему-то были задействованы не столько кадровые, сколько тыловые части, что привело к тяжёлым потерям среди танков и военнослужащих. Кроме того, оказалось, что БТ-5 и БТ-7 плохо приспособлены для полярных условий.
К 1941 году БТ-7 сняли с производства, но не с вооружения. Даже БТ-2 было решено использовать в учебных частях до окончательного износа. При этом «бэтэшки» после всех конфликтов уже были сильно изношены, а выпуск запчастей для них тоже прекратили. И этим старым машинам пришлось вынести всю тяжесть кампании 1941 года.
«Бэтэшки» несли потери, но в умелых руках показывали себя не менее эффективными, чем Т-34.
После того, как наступление вермахта выдохлось, а предприятия развернули массовый выпуск современных танков, выжившие БТ, однако, остались в строю, и не только в училищах. На Ленинградском фронте БТ-5 и БТ-7 использовали вплоть до самого снятия блокады, а в 1945 году БТ-7 вновь пошли в атаку на Дальнем Востоке, добивая Квантунскую армию, и прошли по Харбину парадным строем. Интересно, что захваченные БТ-7 финны оснастили 114мм гаубицей и использовали такие самоходки до 1944 года – то есть до выхода Финляндии из войны.
Ссылки [ править ]
| Викискладе есть медиафайлы по теме Северский СЕВ-3 . |
- Зеленый и Swanborough Air Enthusiast
Ten, стр. 9-10. - Грин и Swanborough Air Enthusiast
Ten, стр. 9. - «Амфибия летит почти четыре мили в минуту» Popular Mechanics , декабрь 1935 г.
- Грин, Уильям и Гордон Суонборо. «Конец начала … Северский Р-35». Air Enthusiast
, Ten, июль – сентябрь 1979 г., стр. 8–9. - Дэвис, Ларри. P-35: Mini в действии
(Mini Number 1). Кэрролтон, Техас: Squadron / Signal Publications, 1994. ISBN 0-89747-321-3 , стр. 4. - ↑
Редакторы, «НОВЫЙ САМОЛЕТ ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА ВОЗДУШНОГО КОРПУСА»
Информационное письмо авиационного корпуса
, Информационный отдел, Авиационный корпус, Здание боеприпасов, Вашингтон, округ Колумбия, 1 июля 1936 г., Том XIX, номер 13, стр. 12. - https://www.scribd.com/document/76986615/Air-Force-News-Jul-Dec-1936
- Грей, CG; Бриджмен, Леонард, ред. (1937). Джейн — самолет всего мира, 1937 год
. Лондон: Sampson Low, Marston & company, ltd. п. 324c. - Swanborough и Bowers 1963, стр. 527.
- на уровне моря
Тактико-технические характеристики
Принято считать, что БТ-7, самый совершенный представитель серии, был вне конкуренции в 30-е годы, но к началу Великой Отечественной безвозвратно устарел.
Но сравним его параметры со схожим по концепции британским танком «Крусейдер» и немецким Pz.III наиболее современной к 1941 году модификации.
| БТ-7 | Mk.VI Crusader | Pz.IIIAusf.J | |
| Масса, т | 14,2 | 19,3 | 21,5 |
| Длина, м | 5,6 | 5,9 | 5,5 |
| Толщина брони, мм | 15-20 | 18-34 | 30-50 |
| Максимальная скорость, км\ч | 52/72 | 43 | 40 |
| Запас хода, км | 375/460 | 255 | 155 |
| Вооружение | 45 мм пушка, 1-3х7,62мм пулемёта | 40 мм пушка, 2х7,7 мм пулемёта | 50мм пушка, 2х7,92мм пулемёта |
Конечно, у БТ-7 были и неустранимые недостатки, вроде тесного корпуса, вызванной применением подвески Кристи. Были и те, которые в принципе можно было победить, вроде отсутствия качественных наблюдательных приборов. Однако пушка калибра 45мм в 1941 году была вполне адекватным оружием, а по подвижности БТ-7 превосходил конкурентов даже без использования колёсного хода. «Крусейдер», защищённый немногим лучше советского танка, достаточно успешно использовали ещё в африканской кампании.
Очевидно, что потенциал для модернизаций платформа уже исчерпала, но «ограниченно боеспособным» БТ-7 не был. Наоборот, он вполне мог дать немецкой технике достойный отпор.
Однако сказывались износ узлов (вспомним, что производство запчастей было свёрнуто вместе с серийным выпуском танка), добавим растерянность в первые недели блицкрига. Наконец, к тактике засад, позволявшей атаковать противника даже с лучшим обзором и более толстой бронёй, перешли только к осени 1941 года. До этого даже атаки противника пытались отражать встречной лобовой атакой – такой метод был прописан в уставе.
Танки серии БТ стали впечатляющим достижением танкостроения.
Даже если помнить о их американском происхождении – именно советским конструкторам удалось довести идеи Кристи «до ума» и создать на основе его прототипов грозную боевую машину. Именно танк БТ (а не «парадный» Т-35), участвовавший во многих войнах, и дошедший до финала Второй Мировой войны, должен был быть символом мощи бронетанковых сил Красной армии.
Первый советский серийный танк
Судьба выпущенных харьковчанами двадцати пяти танков Т-24 сложилась драматически. До 1932 года они оставались невостребованными, пока не была, наконец, принята на вооружение 45-мм пушка образца 1932/38 годов. К этому моменту руководство УММ РККА уже осознало, что производимые на базе закупленных танков «Виккерс» Мk.Е и «Кристи» 1931 советские танки Т-26 и БТ-2 вполне способны решать задачи, для которых конструировался Т-24. Кроме того, на Кировском заводе в Ленинграде шли работы по созданию многобашенного среднего танка прорыва Т-28, который по своим тактико-техническим данным полностью превосходил Т-24. В результате танк Т-24 так и не приняли на вооружение
Первым танком, произведенным молодой Советской Республикой, был «Русский «Рено» (плохо скопированный самый массовый и, пожалуй, самый удачный танк Первой мировой войны «Рено» FT-17), иногда называемый танком «Борец за свободу товарищ Ленин» – по имени первой машины серии. Всего выпустили 15 «Русских «Рено», производство которых наладили в Нижнем Новгороде на под руководством «пришлых» петроградских инженеров с Путиловского и Ижорского заводов – эту группу возглавлял конструктор Сергей Петрович Шукалов. Путиловский и Обуховский заводы были пионерами Российской Империи в освоении и производстве сложной техники, Ижорский же завод специализировался на изготовлении бронелистов и бронедеталей для нужд Императорской армии.
После окончания Гражданской войны танки в Советской России не производились – все силы страны были брошены на индустриализацию и восстановление разоренного войной народного хозяйства. И все же «танковая тема» не была забыта. На Обуховском заводе изучалась трофейная техника, захваченная Красной армией у белогвардейцев и интервентов, а с предприятий и мастерских, расположенных на юге России, где еще недавно шли ожесточенные бои, по крупицам собиралась информация о специфике иностранных танков, которые местные умельцы ремонтировали для Белой армии. Начиная с лета 1921 года, Обуховскому заводу доверяется ремонт и обслуживание имеющейся у Красной армии бронетехники, так как качество работы сормовцев категорически не устраивало военных. В 1922 году завод переименовали в Петроградский государственный орудийный оптический и сталелитейный .
Танк Т-18 (или МС-1 – «малый сопровождения») на параде 7 ноября 1929 года
Источник – bronetehnika.narod.ru
В 1924 году в Москве было создано конструкторское бюро при Главном управлении военной промышленности, которое возглавил С. П. Шукалов. Сначала КБ создало танк Т-18 или МС-1 («малый сопровождения») – новую, более глубокую модернизацию «Рено» FT-17. Т-18 был разработан к 1925 году, а его серийное производство началось в 1928 году на ленинградском .
Но армии был необходим более мощный танк сопровождения войск, и 20 декабря 1927 года Управление механизации и моторизации РККА (далее – УММ) сформулировало требования к новому танку с пушечно-пулеметным вооружением во вращающихся башнях. Его разработку поручили осуществить коллективу конструкторов Харьковского паровозного завода имени Коминтерна (далее – ХПЗ) под общим руководством КБ Шукалова, которое к этому времени переименовали в Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста. Харьковчане уже имели опыт создания гусеничной техники гражданского назначения (трактора «Коммунар», сконструированного на базе немецкого «Ганомаг» WD Z-50), теперь же им предстояло учиться создавать танки.
Москвичи не стремились взять на себя всю работу, а наоборот, максимально перекладывали ее на харьковчан. Первоначально на ХПЗ за танк отвечали заместитель главного инженера М. Андриянов и заместитель начальника тракторного цеха В. Дудка, но в 1927 году на заводе была создана специализированная конструкторская танковая группа, которую возглавил И. Н. Алексенко – молодой и талантливый конструктор, который к этому времени как раз вернулся из армии. Надо сказать, что большинство конструкторов, работавших в группе, были еще очень молодыми людьми – так, Алексенко в 1927 году исполнилось 23 года, одному из его заместителей А. А. Морозову было столько же, большинству остальных инженеров КБ – еще меньше.
И. Н. Алексенко – руководитель танковой конструкторской группы ХПЗ им. Коминтерна с 1927 по 1931 год (в мае 1929 года на базе группы сформировано специализированное КБ Т2К) Источник – morozov.com.ua
Коллектив группы активно включился в работу. Прототип танка был создан 15 октября 1929 года, но еще два месяца велись работы по установке на него оборудования. На конструкцию Т-12 повлияли сразу две иностранные школы: американская и французская. Компоновка во многом была «подсмотрена» у экспериментального танка М1921 конструкции американского инженера Кристи, созданного в 1921 году и серийно не производившегося. Он полностью отвергал классическую ромбовидную форму танка, характерную для машин времен Первой мировой войны и имел компоновку, ставшую вскоре классической – с отделением управления (расположенным спереди), боевым отделением (размещенным посредине) и трансмиссией с двигателем, которые размещались в кормовом отделении. Скорее всего, компоновка танка была взята из открытых источников – американских научно-популярных журналов, в которых американские конструкторы-предприниматели часто публиковали рекламную информацию о своих технических разработках.
Американский танк М1921 конструктора Кристи Источник – aviarmor.net
Пулеметное вооружение танка Т-12 размещалось в отдельной башенке, которую, для экономии пространства и уменьшения размеров и массы корпуса, поместили поверх основной башни танка. Это создавало определенные проблемы для экипажа и увеличивало поражаемый силуэт машины, но в то время конструкторы ради снижения веса шли даже на такие жертвы.
Влияние французской школы танкостроения сказалось и на подвеске – она почти полностью повторяла конструкцию подвески танка Т-18 (МС-1), которую, в свою очередь, советские конструкторы «подсмотрели» у французского «Рено» NC27.
Деревянная модель среднего танка Т-12, 1929 год Источник – morozov.com.ua
Ходовая часть Т-12 состояла из шестнадцати опорных катков (по восемь на каждый борт), сблокированных попарно в восемь тележек (по четыре на борт) с вертикальной пружинной амортизацией. Каждую гусеницу поддерживали четыре верхних поддерживающих ролика, задние колеса танка были ведущими, а передние – направляющими.
На Т-12 планировали устанавливать отечественный мотор конструкции инженера А. А. Микулина (племянника отца русского самолетостроения Н. Е. Жуковского), производство которого планировали развернуть на . Но так как готового двигателя еще не было, в моторном отделении танка разместили карбюраторный 8-цилиндровый авиационный двигатель М-6 – лицензионную копию французского мотора «Испано-Сюиза» 8Fb мощностью 240–300 л.с.
Планетарная коробка переключения передач позволяла танку развивать на трассе скорость до 26 км/ч. Сзади к Т-12 был приделан специальный металлический «хвост» длиной 690 мм, который удлинял танк, что позволяло последнему успешно преодолевать окопы шириной до 2,65 м (эта конструкционная особенность «перекочевала» на него с Т-18).
В лобовом бронелисте девятигранной клепанной основной башни Т-12, предназначенной для трех членов экипажа из четырех (командира, заряжающего и пулеметчика), планировали устанавливать 45-мм танковую пушку или 76-мм гаубицу. В боковых бронелистах башни были смонтированы шаровые установки конструкции Шпагина для двух 7,62-мм пулеметов системы Федорова. Третий пулемет монтировался в шаровой установке в лобовом бронелисте башни справа от пушки, четвертый – в верхней пулеметной башенке, установленной на крыше основной башни с небольшим смещением назад.
Танк Т-12 на заводском дворе Источник – alternathistory.org.ua
Бронирование танка для того времени было вполне надежным – 22 мм у лобовых деталей корпуса и башни, и 12 мм – у бортовых. Бронекорпуса для Т-12, как впоследствии и для Т24, изготавливались на Ижорском заводе. Механик-водитель на Т-12 размещался впереди – в отделении управления ближе к правому борту, что в целом нетипично для советских танков и является отличительной особенностью Т-12 и Т-24.
Испытания Т-12 начались 2 апреля 1930 года. Танк прошел всего 2 километра по грунту, так как у него вскоре сломалась трансмиссия, а двигатель успел проработать всего 33 минуты, так как сильно перегрелся, и в радиаторе закипела вода. Проблемой стало и то, что при осуществлении поворотов на мягком грунте правая гусеница соскакивала с ленивца.
Машина прошла доработку, и с 28 апреля по 2 мая 1930 года состоялись новые испытания – на сей раз в присутствии наркома вооружений маршала К. Е. Ворошилова, начальника УММ РККА комкора И. А. Халепского и начальник Научно-технического управления (далее – НТУ) УММ Г. Г. Бокиса. От завода на испытаниях присутствовали директор ХПЗ Л. С. Владимиров и начальник танкового производства С. Н. Махонин. Вместо еще не созданного пулемета Федорова, которым планировалось вооружать танк, установили 7,7-мм пулемет Льюиса, который во время стрельб на ходу показал хорошие результаты – до 60% попаданий в цель. Танк на 1-й передаче легко преодолевал подъемы в 35–
36°, развивал на ровной местности скорость до 26 км/ч (а при кратковременном увеличении оборотов двигателя до 2000 об/мин – и до 30 км/ч), форсировал окопы шириной до двух метров и довольно резво преодолевал участки пересеченной местности. Давление его гусениц на грунт составляло 0,45 кг/см2, что было вполне приемлемым показателем. Тем не менее, военные машину на вооружение не принимали.
Еще в середине 1929 года стало понятно, что Т-12 в серию не пойдет из-за заложенных изначально конструкционных недостатков, которые делали танк ненадежным и имеющим малый запас хода (80 км). Танковому КБ ХПЗ, в которое в мае 1929 года была переформирована конструкторская группа Алексенко, поручили параллельно с окончанием проекта «Т-12» разработать его более совершенную модификацию, которой присвоили индекс Т-24.
Прототип танка Т-24 образца 1930 года Источник – noos.com.ua
Конструкционно Т-24 отличался от Т-12 незначительно, фактически являясь почти тем же танком. Дополнительные бензобаки Т-24 в силу дефицита внутреннего пространства разместили в надгусеничных полках, как это было реализовано и на Т-18. В верхней лобовой детали танка установили курсовой пулемет, поэтому машина получила еще одного члена экипажа – пулеметчика, размещавшегося в отделении управления слева от водителя.
Не дожидаясь создания прототипа Т-24, УММ РККА обязало ХПЗ изготовить опытную партию из пятнадцати машин. Первые три танка были готовы к июлю 1930 года, и один из них отправили для испытаний в Кубинку. Здесь с полными баками и боекомплектом в 10 снарядов танк вышел на полигон, но вскоре у него загорелся двигатель. Экипаж в панике покинул Т24, за исключением механика-водителя Владимирова, который в одиночку погасил пожар и спас машину. Танк получил незначительные повреждения и был снова отправлен на доработку.
Прототип танка Т-24 образца 1931 года на испытаниях. Так как ни 45-мм орудие, ни пулеметы Федорова готовы не были, танк проходил испытания без них Источник – protank.su
Первоначально установленную на Т-24 девятигранную башню от Т-12 заменили новой цилиндрической, а старую башню вернули на Т-12. В новой башне вместо 45-мм орудия конструкции Соколова, которое так и не было закончено, планировали установить экспериментальное 45-мм орудие, которому вскоре предстояло стать широко известной 45-мм танковой пушкой образца 1932/1938 годов. Боковые шаровые пулеметные установки в башне убрали, оставив пулеметы только в лобовом бронелисте башни и пулеметной башенке – таким образом, пулеметное вооружение танка сократилось до трех пулеметов. Вместо так и не созданного пулемета Федорова прототип танка Т-12 и танки Т-24 оснастили танковым пулеметом системы Дегтярева образца 1929 года. Боекомплект машины теперь составлял 89 снарядов и 8000 патронов.
В результате изменений масса танка увеличилась с 14,7 до 18,5 тонны, что сказалось на его ходовых качествах – максимально развиваемая скорость сократилась до 22 км/ч. Зато запас перевозимого горючего у Т-24 возрос до 460 литров, что позволило увеличить запас хода в полтора раза – с 80 до 120 км.
Танк Т-24 Источник – museum-t-34.ru
После проведенных в августе совместных испытаний Т-24 и Т12 УММ сделало заказ на производство в 1931 году трехсот танков Т-24. К этому времени на предприятии был построен специальный корпус Т2 для производства и сборки танков, а также значительно расширено самостоятельное танковое конструкторское бюро Т2К во главе с И. Н. Алексенко. Но уже 1 июня 1931 года председатель научно-технического комитета УММ РККА И. А. Лебедев направил директору ХПЗ задание на проектирование колесно-гусеничного легкого танка БТ («Кристи»). Производство Т-24 харьковчанам приказали остановить, в результате чего завод успел изготовить только 28 шасси, 25 бронекорпусов и 26 башен (план по выпуску танка явно срывался), из которых собрали только 25 готовых танков.
Причин для такого решения, принятого московским руководством, было несколько. Во-первых, в 1930 году закупочная комиссия во главе с главой УММ комкором И. А. Халепским посетила целый ряд иностранных частных предприятий, занимавшихся проектированием и производством гусеничной бронетехники, и заключила с некоторыми из них договоры о лицензированном производстве в СССР. Халепский убедил наркома вооружений маршала Ворошилова в том, что для отечественного танкостроения перспективнее закупить и производить по лицензии английский танк «Виккерс» Mk.E и американский «Кристи» M1931, чем по новой «набивать шишки» там, где западные конструкторы уже нашли более простые и дешевые решения. Последующее развитие событий показало, что это решение являлось верным.
Коллектив КБ Т2К Харьковского паровозного завода Источник – morozov.com.ua
Кроме того, инженеры частного конструкторского бюро Эдварда Гротте, привлеченные для работы в СССР той же комиссией, совместно с советскими конструкторами спроектировали перспективный средний танк ТГ-1, прототип которого собрали на ленинградском . По бронированию, вооружению, надежности и подвижности он превосходил и Т-12, и Т-24, и большинство западных аналогов, поэтому высшее советское руководство видело именно его основным средним танком Красной армии. Лишь значительно позднее выяснится, что этот танк слишком дорог для советской экономики и слишком сложен для танковой промышленности довоенного СССР.
Однако то, что казалось очевидным в Москве, встретило непонимание в Харькове. По заявлению помощника начальника УММ РККА Г. Г. Бокиса,
«директор завода Бондаренко с целью дискредитации быстроходной машины открыто называл ее «вредительской». …стоило очень больших усилий, нажимов и постановлений, вплоть до Правительства, чтобы заставить ХПЗ строить танк БТ и в порядке производства устранять отдельные недочеты, которые имелись в чертежах и конструкциях танка БТ».
Танк БТ-2 Источник – valka.cz
После значительного давления со стороны Москвы работы над новым танком (будущим БТ-2) все же начались, но не теми темпами, которые устраивали бы высшее руководство – к 1 ноября 1931 года было собрано только три машины взамен запланированных шести. Уже 7 ноября новые танки участвовали в военном параде в Харькове.
Возглавлявший танковое КБ Т2К ХПЗ инженер И. Н. Алексенко подал заявление на увольнение, считая, что навязывать заводу производство иностранной техники непатриотично и вредно для воспитания отечественных конструкторских кадров. Заявление Алексенко удовлетворили, и 6 декабря 1931 года на его должность был назначен бывший генеральный конструктор ленинградского А. О. Фирсов, ранее осужденный как член вредительской группы (работой в Харькове ему заменили 5 лет лагерей). Эти изменения стали судьбоносными для завода, советского танкостроения, да и для всей страны в целом.
Фирсов принес на ХПЗ идеи, которые легли в основу будущего легендарного танка Т-34 – танковый дизель, который вскоре создадут харьковские специалисты, и 76-мм орудие как основное вооружение будущего танка. От танка «Кристи» Т-34 получил «в наследство» полностью сварной корпус и «подвеску Кристи», от которой отказались в пользу торсионной подвески лишь после войны. Но это все будет потом, а пока создатели Т-24 с недовольством восприняли изменения, навязанные им «сверху», но, тем не менее, продолжали работу.
Коллектив КБ Т2К ХПЗ им. Коминтерна вместе с его руководителем с 1931 по 1936 год А. О. Фирсовым (в центре) Источник – museum-t-34.ru
Судьба выпущенных харьковчанами двадцати пяти танков Т-24 сложилась драматически. До 1932 года они оставались невостребованными, пока не была, наконец, принята на вооружение 45-мм пушка образца 1932/38 годов. К этому моменту руководство УММ РККА уже осознало, что производимые на базе закупленных танков «Виккерс» Мk.Е и «Кристи» 1931 советские танки Т-26 и БТ-2 вполне способны решать задачи, для которых конструировался Т-24. Кроме того, на Кировском заводе в Ленинграде шли работы по созданию многобашенного среднего танка прорыва Т-28, который по своим тактико-техническим данным полностью превосходил Т-24. В результате танк Т-24 так и не приняли на вооружение.
Восемнадцать машин направили в Харьковский военный вкруг (далее – ХВО), где они оказались в учебных подразделениях. Один танк остался в Московском ВО (далее – МВО) и числился за Военной академией механизации и моторизации РККА им. Сталина, еще пять машин находились в распоряжении танко-артиллерийских полигонов. По состоянию на начало 1938 года большая часть этих танков вышла из строя из-за поломок в двигателе, трансмиссии и/или ходовой части.
2 марта 1938 года приказом Наркома вооружений предписывалось снять танки с эксплуатации, частично разоружить их, разбронировать и передать в приграничные укрепрайоны для использования в качестве неподвижных бронированных огневых точек – БОТов (ранее подобным образом в БОТы были преобразованы снятые с вооружения танки МС-1). Приказ касался двадцати двух машин Т-24, которые на тот момент находились в ХВО и на складах хранения бронетехники. Так, Киевский ВО должен был получить 12 танков (все от ХВО), а Белорусский ВО – 10 танков (из них 6 – от ХВО, 1 – от МВО и 3 танка – с московского склада-мастерской №37).
С поступивших танков полностью демонтировались двигатели, трансмиссии, гусеницы и прочие агрегаты ходовой части – оставались только опорные катки, чтобы танки можно было буксировать. Также демонтировалась пулеметная башенка, пулеметы и 45-мм пушка, а вместо них устанавливалась 76-мм танковая пушка (Л-10 или КТ-28) и 7,62-мм станковый пулемет «Максим» в шаровой установке справа от нее. Отделение управления полностью переделывалось, усиливалось лобовое бронирование, и устанавливались две шаровые установки под станковый пулемет «Максим». Такая бронированная точка не зарывалась в землю, а оперативно буксировалась и устанавливалась на участке вероятного прорыва противника.
О полноте выполнения этого приказа информации нет. Возможно, процесс создания БОТов затянулся, так как на немецких фотографиях лета 1941 года присутствуют подготовленные к установке в виде БОТов танки Т-24, которые не успели переместить на позиции.
Немецкий солдат на фоне БОТа, в который был переделан танк Т-24, вооруженный 76-мм пушкой Л-10, Ленинградский ВО, осень 1941 года Источник – aviarmor.ru
Есть информация о том, что к 1941 году остался лишь один комплектный танк Т-24, находившийся в распоряжении полигона Научно-исследовательского института бронетанковой техники в Кубинке, но осенью 1941 года он, видимо, был отправлен на фронт.
В книге Артема Драбкина «Я дрался на танке» приводятся воспоминания Героя Советского Союза Ашота Апетовича Аматуни, описывающие бои в Сальских степях летом 1942 года, в которых он участвовал, будучи курсантом пехотного училища:
«…От станции Суровикино
(Волгоградской области – прим. автора)
мы походным маршем прошли на передовую…где-то в 120–140 км западнее Суровикина заняли оборону…танки представляли для нас самую большую опасность, потому что единственным средством борьбы с ними у курсантов были только бутылки с зажигательной смесью…шли против нас не легкие танки Т-II, а средние Т-III и Т-IV, серьезные противники. Нас же к концу боев стали поддерживать английские танки «Матильда» и наши Т-24, но это были маленькие и нехорошие танки, вот действительно помогли нам Т-26…»
Вряд ли представится возможным узнать наверняка, ошибся ветеран и принял за Т-24 какие-то другие машины, или же это действительно были танки Т-24, не ставшие БОТами и погибшие в неравных боях.